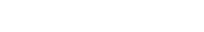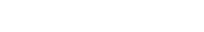|
Недопонимание
Русский
язык горазд на образование слов громоздких и лукавых. Именно
такое слово я вынес в заголовок. Но речь пойдет не о словах,
а о фильмах, хотя и они больше повод к разговору, чем его предмет.
И это длинное слово лучше коротких и ясных послужит мне для
описания некоего культурного феномена, очень наглядно связанного
с выбранными мною фильмами. Именно по этому признаку – недопонятости
я их и отобрал.
Вот эти фильмы:
АКИРА КУРОСАВА.
“РАСЕМОН”
В 1951 году фильм Куросавы
стал культурной сенсацией. Благодаря японцу до людей дошла,
наконец, благая весть: Истины нет. Блистательное художественное
воплощение этого философского тезиса прежде всего и увидела
культурная элита в “Расемоне”. О Витгенштейне тогда слышали
немногие, Акутагаву стали читать после и благодаря. И проглядели
самое интересное: в своем “Расемоне” Куросава спорит
с писателем, - и именно в пункте об истине. Фильм не о том,
что истины нет, - об этом рассказ “В чаще”, - а о том, что человеку
невозможно с этим примириться. Финальная перепалка между Дровосеком
и Вором о судьбе брошенного младенца в присутствии скорбящего
о заблудшем мире буддистского монаха, в которой устами Дровосека
глаголет сам Куросава, означает именно экзистенциальную
невозможность приятия ситуации безистинности. А если точнее
– тех выводов, которые неизбежно следуют при таком положении
дел, и которые тут же наглядно демонстрирует Вор, выдергивающий
из-под младенца последнюю пеленку. Разумеется, не Акутагава
и даже не Витгенштейн “развратили” мир истиной о том, что истины
нет, разрушили эту утешительную иллюзию о наличии “последней
инстанции”. Когда появился “Расемон” Куросавы мир был уже на
пороге эры плюрализма, - культурного вывода из отказа
от претензиий на обладание истиной (но - sic! - не отказа от
нее самой), наступление которой придержала холодная война. Плюрализм
означает, что любой точке зрения может быть противопоставлена
любая другая, и что выбор между точками зрения произволен. “Произволен”
тут надо понимать буквально, т.е. зависит исключительно от нашей
воли, без ссылок на то, от чего зависит сама воля. Не будем
говорить сейчас о либерализме и демократии, которые без плюрализма
невозможны; я веду речь не об обществе, а об индивиде, личности,
если угодно. И этому индивиду, этой личности презумпция индифферентности
истоков его действия относительно истоков и действий других
индивидов на руку только в том случае, если сам индивид нечист
на руку. Во всех других случаях (а много ли их – других случаев;
собственно, один: противостояние неприемлемой позиции Другого)
человеку непереносима сама мысль о безосновности его поступков.
И дело здесь вовсе не в трусости, не в том, что подчас кишка
тонка действовать на свой страх и риск, без санкции со стороны
некой гарантирующей силы. Дело в том, что добру невозможно
быть равноправным со злом. Я нарочно обошелся без заглавных
букв, дабы подчеркнуть, что речь не о метафизике, а о жизни:
сталкиваясь в своей жизни со злом, мы никак не можем ему противостоять
без сознания своего права. Но откуда бы, оставаясь в плюрализме,
этого сознания преисполниться? И наоборот, - неправой, злой
воле плюрализм приходится очень кстати.
Именно такова коллизия финала "Расемона" Куросавы, которую
критика проглядела. В действиях Дровосека увидели всего лишь
сентиментальный протест уязвленного собственной нечистой совестью
человека, своего рода проекцию гуманистического пафоса самого
Куросавы, его морализма, да еще вот старую, Гегелем подкинутую,
идею о том, что Истина не находится, а творится – человеком
(в данном случае очень простым человеком). Все это так,
но только на поверхности. Впрочем, то о чем говорю я тоже не
в таких уж глубинах таилось. Однако же увидено и отрефлектировано
изощренными умами почему-то не было.
МИКЕЛЬАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ.
“BLOW UP”
Герой Антониони об истине не хлопочет.
Он модный фотограф, ему и так хорошо. Настолько, что его отношения
с миром суть игра: люди и вещи для него забава. Истина, которой
он не взыскует сама настигает его – в его же стиле, врасплох,
- и оказывается чем-то вроде производственной травмы: после
всех приключений с нею привычная легкость бытия становится невыносимой.
Истина в фильме итальянца наделена иным набором свойств,
чем в “Расемоне”; прежде всего она опасна – в силу
того, что она уже есть, дана и ею можно обладать. Фотограф
Дэвид, ставший нечаяным свидетелем финального акта некой драмы,
обнаруживает на сделанной им фотографии истину-улику, труп убитого
мужчины, и успевает убедиться в том, что это не только эффект
сверхувеличения: труп и впрямь есть. Но и негатив и
позитив у него крадут, труп тоже исчезает, и он оказывается
один на один со своим знанием истины, которую не может
никому предьявить ни в каком виде. Тем более, что она никому
не интересна, как не была интересна ему самому до того, как
свалиться на голову: мир прекрасно обходится без каких-то там
истин. И вот человек всего лишь ненароком, нечаянно прикоснувшийся
к истине, выпадает из распорядка игры-вместо-жизни
настолько радикально, что такая жизнь становится для него неприемлема.
Без истины жизнь – клоунада.
Разумеется Антониони как художник предлагал нам
не морали, а метафоры; разбираться с ними уже наше дело. Но
- задаю я себе вопрос – возможно ли иное прочтение метафоры
Blow Up для того, кому тоска главного героя, возвращающего в
игру не себя, а воображаемый мяч, внятна настолько, насколько
внятно явил ее в финале автор фильма?
Оказывается возможно. Чего только не писали критики,
о чем ни стоял толк в тусовках, - а в сухом остатке все то же
привычное высокоинтеллектуальное “ага! истины нету, вот и Антониони
о том же!”.
Помилуйте! – да не о том же!
Совсем о другом!
Вычурный, салонный, мутный рассказ “Слюни дьявола” сверхмодного
тогда Хулио Кортасара, изящно расположившийся на этой модной
теме как мадама на канапе, - да, он ласково прошелестел что-то
в этом роде. Но, попавшийся на глаза Антониони, он снабдил его
фильм лишь фабулой и темой; интеллектуальное кокетство итальянцу
всегда было чуждо. Замечательным индикатором несходства двух
авторов оказывается такой красноречивый нюанс: истину в “Blow
Up” не теряют, а обнаруживают, крадут и, в конце-концов,
уничтожают. Для избавления от ненужных проблем, для облегчения
жизни.
Ничто в фильме не говорит о том, что истины
нет, об этом речь не идет вовсе.
И все в фильме говорит о том, что “легкое” -
без-истинное – бытие есть фальшивка, дешевка и самообман …
Интеллектуальная братия предпочла воображаемый мяч…
ЛАРС ФОН ТРИЕР. “ИДИОТЫ”
Триер запустил своим
фильмом новое чтение (коннотацию) слова "идиот". Для поколения
некст, да и всех последующих, это слово скорее всего будет связано
не с известным князем, а с придуриванием в известном стиле.
По нашему ТВ уже промелькнула пара сюжетов о "придурках" (так
называют себя они сами) обеих столиц, находящих особую доблесть
в появлениях на людях без штанов и в прочих подобных гэгах.
Сравнительно с тем, что мы увидели в фильме, такое придуривание
может быть обозначено как "лайт". Недавно состряпанная для ТВ
же (при поддержке дюже озабоченных состоянием нашей духовности
радетелей, собственные отношения которых с означенной духовностью
также весьма и весьма "лайт") экранизация романа Достоевского
не сможет приостановить этот процесс хотя бы на данной, ввереной
нам територии: не молодежь сделала сериалу зашкаливающий рейтинг,
для них он такая же муть и скукотища (они говорят короче и на
мой вкус точнее - "отстой") как и сам роман.
Но дело даже не в этом. Подражать князю Мышкину не взбредет
в голову даже самому отчаянному фану Федора Михайловича, потому
как, буде и взбредет, совсем непонятно как это делать. Князь
ведь лицо сугубо в страдательном залоге пребывающее.
Да и вообще - не "прикольно".
Между тем подражание триеровским героям опасно. И фильм
об этом, а вовсе не о том, чтобы, как пишут в текстах о нем,
найти в себе идиота. То есть, и об этом, конечно, тоже, - но
раскопать в себе под "буржуазными" корками идиота и, прикрывшись
придуриванием, обстебывать тех, кто еще не въехал в прелесть
прикола это еще полдела, первый этап; об этом прямо говорит
главный герой, идеолог и лидер теплой компании “придурков” Кристофер.
Фильм о том, что быть идиотом - пребывать в истине этого
состояния - возможно только ценой боли.
И потери…
Лица, как сказали бы японцы, - и личности, добавляю я,
европеец.
Быть идиотом значит поставить себя вне каких-либо конвенций,
- даже тех, которые навязывает язык - на круг, тотально опосредующих
отношения человека с миром (вот он пресловутый тоталитаризм
культуры, притом, что вовсе не репрессивный, а очень даже ласковый,
потому как спасающий - от столкновения лицом к лицу с Ничто).
Быть идиотом по фон Триеру-Кристоферу значит впасть в детство.
У ребенка непосредственные отношения с миром, т.е не-опосредованные,
неконвенциональные. Мир для ребенка есть прежде всего указание
к действию, изначально - к действию по овладению миром. В английском
языке есть технический термин, который очень здесь применим
- direct drive, прямой привод. Всякое – и спонтанное и реактивное
действие (прафеномен бытия; вспомним спор Фауста с Иоанном Богословом:
“в начале было Дело”) есть direct drive. Индифферентность, "неотзывчивость",
неподатливость мира, не дающегося никакому обладанию запускает
процесс обучения, поиска помощи, союзничества, в конечном итоге
- вступления в конвенциональную связь с ним на круг, потому
что все более и более очевидным становится, что мир не столько
Другой, сколько Другие. Начинается "взрослая"
жизнь - игра по правилам. Взрослый от ребенка, собственно, только
этим и отличается, что играет по правилам: Другие не
позволяют действовать иначе. Взрослость, социабельность есть
униформа, от которой ты не можешь отказаться как призванный
в соответствующий момент в общество.
Но мир - это не только общество, и эта самая большая
из армий ничтожна в сравнении с Универсумом. Рано или поздно
человек сталкивается с ситуациями, в которых правила не спасают,
сбоят, - и тогда, как компенсация, всплывает из недр никогда
не умирающего в человеке детства direct drive. Только теперь
это не способ овладения, а восстановление утраченной связи,
всегда возможной именно и только как связь.
Одна из таких ситуаций – любовь. Без direct drive любовь
не более, чем сентиментальная и патетическая декларация и контракт
на пользование общим барахлом.
Другой случай – боль. Боль нема, невместима ни в какие
слова, неподвластна никаким конвенциям; от боли корчатся – самое
малое.
На direct drive в “Идиотах” оказываются способны только
те, кому еще или уже нечего терять: влюбленные дети
и потерявшая ребенка мать.
Только им доступна истина бытия – бытие в истине.
Итак – недопонимание…
Оно состоит в удивительной завороженности постулатом об отсутствии
истины. И, mutatis mutandi, приверженности к этому легкому тезису.
Я не настаиваю на том, что сказаное мною здесь сказано впервые:
охотно и с надеждой допускаю, что было уже все сказано когда-то,
где-то, кем-то. Но вот услышано – не было. В противном
случае поступило бы в оборот, стало бы неотъемлемой частью интеллектуального
багажа и того, что у нас все еще любят патетически именовать
духовностью. Тогда бы самой потребности в таком
высказывании у меня не возникло – не с чего ей было бы взяться.
Но нет – без истины оно как-то удобней…
Легче…
На кой она нам сдалась?!..

|