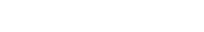
| POLIVA |
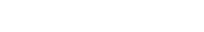 |
| INTROIT | Впередисловие | MainStreet | Problem | БочкаДёгтя | ЛожкаМёда | Недодуманное | Ф-мания | Словарь | LiveJournal | SiteMap | Email |
КАЛАШНЫЙ РЯД, 99/00 |
||
...Ты спрашиваешь, чем мы тут занимаемся? Да тем же, чем и все - пухнем, глядя на нули. Теперь это называется “подводить итоги”. Одни составляют разные хиты, топы, рейтинги и прочие пасьянсы, другие рассказывают друг другу, т.е. другим таким же (тусовка!) чем они занимались в отчетный период. Кто поскромнее - отчитывается за век, кто поразмашистей - за всю Христову эру. Но, ты знаешь, меня не покидает ощущение, что все равно у всех получается что-то вроде декларации о доходах: указывают что заработали, но скрывают, на что жили. (Из письма)
Мы должны передать, сообщить (если это действительно со-общение, ибо это слово, быть может, опережая намерения, выдает его за результат) опыт, который не является опытом в обычном смысле, поскольку может существовать, лишь сложившись из многих личных опытов, сочетаемых в таком порядке, который в своем способе выражения может разительно расходиться с системой оценок в практической жизни. Если искусство - это форма “сообщения”, то все же сообщению подлежит само произведение искусства, и лишь во вторую очередь, и не всегда, опыт и мысль, вошедшие в него. Произведение искусства существует где-то между автором и зрителем; оно обладает реальностью, которая не тождественна просто реальности того, что автор пытается “выразить”, или реальности авторского опыта создания этого произведения, или опыта зрителя, или визуального опыта автора. Следовательно, вопрос о том, что произведение искусства “означает”, гораздо сложнее, чем кажется поначалу. Т.С. Элиот. Назначение поэзии и назначение критики.
Если моль съела и разъела всю шубу, значит ли это, что она эту шубу поняла и изучила. А.В.ЛОСЕВ. Страсть к диалектике. 1 Если ХХ век начался в 14-ом году, то когда началось его, века, искусство? Долгое время (возможно следуя чьей-то подсказке, например Р.Гароди) сам я считал началом “Авиньонских девиц” - картину, которая т.с. позиционно соответствуя основным категориям традиционной эстетики, самое эстетику очевидно приводила к абсурду, причем равно как в классицистическом так и в романтическом изводе (могу предложить тему для нежидкой диссертации: “От Пуссена к Пикассо на “Плоту “Медузы”). И Дюшан и Малевич стали возможны в ситуации гроги после нокдауна причиненного искусству кубизмом. Для самого Пикассо его “demoiselles” имели последствий меньше, чем для искусства века в целом: все, сделанное им после, вполне свободно от их деморализующего воздействия; для него это был опыт обретения свободы. Для искусства же в целом это был опыт разрушения Храма. Те, кто пришел на развалины восстанавливать его не желали: в их глазах это было творчески бесплодное занятие. Если отвлечься от привычных описаний “процессов в европейском искусстве кануна войны”, то вопрос о так называемой “модернистской парадигме творчества” как беспрерывного производства нового, невиданного и небывалого (включая сюда все "левые" поллюции политического сознания европейской интеллектуальной элиты) возможно следует отнести к XIX в., и записать в актив романтизма. В самом деле, разве творчество не созидание нового, чего-то не бывшего прежде, и, стало быть, состоит из замысла (изобретения) и его осуществления (объективации)? И чем радикальнее в отказе от бывшего замысел, чем решительнее его осуществление, тем больше… творчества (и тут же – революция как высшая форма творчества)!? Чем не манифест романтизма обессилевшего в потугах быть все более и более выразительным: ведь именно романтизм заменил Прекрасное классики на выразительное. На переходе от кубизма к “Черному квадрату” и “Фонтану” проблематизации подвергся творческий акт, понимаемый как осуществление некоего проекта. 2 Мне не раз доводилось быть свидетелем (и участником) вполне идиотических дискуссий о “Черном квадрате”; например таких: Искусствовед: Я ничего не имею против Малевича, - он, безусловно, гений, - но пластические качества “Черного квадрата” сомнительны. Художник: Пластические качества “Черного квадрата” наличествуют. Некоторая кривизна в одном углу, неровность мазка в другом - это не случайность, а след борения духа. Но, наплевав на собственную тусклую оскомину и идиосинкразию людей в нашем деле неслучайных, я все же рискну потревожить вновь сию омбру адорату. Мне почему-то кажется, что Малевич и сам-то не вполне отчетливо сознавал, чего он учудил; шаткой опорой моему подозрению служит тот забавный факт, что художник не раз возвращался к этому незатейливому мотиву: ему - что? хотелось в нем что-то улучшить? или это были медитации? бормотание мантры? Все что угодно. Те, кто, возможно заодно с автором, считают, что картина Малевича “Черный квадрат” изображает черный квадрат, пребывают в заблуждении. “Черный квадрат” не изображает ничего, точнее - он изображает ничто, nothing, nichts. В справедливости такой интерпретации легко убедиться стоит сравнить Малевича с Кандинским или Мондрианом - там нефигуративность, здесь - изобразительная индифферентность. Если угодно, это такая хайдеггерианская икона: подобно тому как просто икона не изображает Бога, а лишь символически обозначает его присутствие, так в “Черном квадрате” обозначено присутствие бескачественного Ничто. Оппоненты византийских иконоборцев вполне могли бы сделать его знаменем своей борьбы, как воплощение того соблазна, в который оказался бы ввергнут мир, если бы иконоборцы одержали викторию. Поэтому все рассуждения относительно качеств, - каких бы то ни было, - здесь столь же неуместны, как рассуждения о неумении авторов икон правильно изобразить человека. Был ли Малевич скромнее в своих притязаниях, просто ли ему не терпелось учинить небольшую революцию на приусадебном участке - уже не важно: получилось то, что получилось... 3 Вообще мы как-то странно представляем себе то время, как-то мудрим что ли. Оно было изрядно веселым и бесшабашным - это было время карнавала идей. Люди рядились в идеи, примеряли их, какое-то время в них щеголяли, затем менялись идеями с другими ряжеными. Идеи вели себя не лучше - они валялись на дороге, путались под ногами, сами прыгали в руки. В такой обстановке артистам вроде Марселя Дюшана было раздолье. Чтобы водруженное на табурет велосипедное колесо выставить в качестве произведения искусства нужно было быть не только остроумным, но и веселым человеком. Это был 1913 год! Но к 1917 году даже веселые люди несколько озлели - и появился “Фонтан”. Колесо забыли, а вот писсуар запомнился. Обиделись... 4 Из троицы расчищавшей путь СА только Дюшан сам пошел по нему. Ни Пикассо, ни Малевич стези привычного художества не покинули. Недавно один искусствовед предложил коллегам вопрос: отчего Малевич вернулся к фигуративной живописи? Ответ прост, – он не захотел перестать быть художником. И это притом, что он был вполне “умственным” художником, отдававшим себе отчет в собственной непоследовательности. Попытки вернуться на место преступления (можно и так истолковать его “квадратные” медитации) не свидетельство ли сомнений и колебаний? В Малевиче угадывается религиозный тип деятеля, который нечасто встречается в игровой спонтанной стихии искусства, и который в России был представлен еще более ярко Филоновым. И Малевич и Филонов мнили себя пророками; отсюда их стремление учредить новый миф, новую утопию (впрочем, новую ли?; все утопии стары как мир и похожи одна на другую, после Платона можно было бы успокоиться), основать школу, быть мэтрами. Но что можно было пророчествовать, чему учить после “Черного квадрата”? На Ничто мифа не учредишь и утопию не построишь. Чуя это, Малевич развернул свой личный миф лицом назад, посвятив всю оставшуюся после "Квадрата" жизнь сочинению ему и себе биографии, - пути, которого никогда не было. Пикассо не был ни пророком, ни философом. Он думал при помощи кисти. И, как ни странно, его вывод, а точнее – выход – из того, что другим представлялось тупиком, - оказался куда радикальнее, чем артистическое шутовство его приятеля и собутыльника Дюшана или почти религиозный порыв Малевича. То, что публике, критикам и соратникам казалось отступлением – академический период, сменивший кубизм – оказалось на деле свидетельством прорыва в новые пространства. Что составляло плоть классической эстетики, которой нанес coup de grace Пикассо? Тематизм, пространственная когерентность, экспрессия. Чем заменил эти триаду автор “demoiselles”? Чистой суггестивностью. Произведение искусства, картина должна впечатлять, и для этого достаточно очень простых средств, - вот, собственно, весь урок. Изобразительность? Достаточно узнаваемости, долой иллюзию. Тематизм? Его в “demoiselles” едва хватает на нехитрый куплет какой-нибудь кабацкой попевки. Выразительность? А что, собственно, выражают эти вытаращенные глаза, кроме вытаращенности и раскоряченные фигуры, кроме раскоряченности? И этого достаточно. Пространственная когерентность изобретение древних греков. Кроме европейского искусства она известна китайскому, но там ей не суждено было соединиться с иллюзионизмом. Не случайно, что появилась она там, где был театр – требование обозначения сцены, на которой разыгрывается действие картины. Традиционное искусство других народов, не выделившееся в “представление” имело “сценой” Универсум. Любое действо здесь было сакральным, неотчужденным, и оттого актуальным, включавшем не зрителя, но – участника. Пространство любого изображения структурировалось как символическая топография Универсума, превращая изображение в карту - мандалу; отсюда нечувствительность к рамке, тяготение к сфере. Христианская икона, будучи паллиативом, в отличие от мандалы требует алтаря – этого коллегиального органа, и.о. иерархизированного по вертикали мира, лишенного космического (сферического) измерения (“Троица” Андрея Рублева – тоска иконы по мандале). Здесь место пространства заступило время; алтарь это карта сакрального времени, объемлющего профанное пространство. Античность привязала искусство к человеку, его телу – и тем сделало неизбежной сцену. Христианство, как ни старалось, не смогло избавиться от этого наследия потому, что тоже было сфокусировано на человеке – на его истории, протекавшей в сакральном времени, но на сцене профанного пространства; объект столь двусмысленного нарратива неизбежно должен был быть хоть сколько-нибудь телесен. Флоренский, противопоставляя икону перспективизму Ренессанса, не усмотрел собственной двусмысленности иконы, ее “червоточины”: сколько не старалась икона маскировать пространство, – профанное, дольний мир, землю, - оно все равно оставалось “сценой”. Этой лазейкой воспользовался Ренессанс. Первый шаг в направлении дискредитации сцены сделали импрессионисты, хотя это и не входило в их намерения, а произошло случайно, параболически, через понижение в ранге тематизма – из литературного, символического, мифологического он сместился в область обыденного; на смену сюжету пришел мотив - нечто случайное, проходное, мимолетное (отмечаю этот момент как чрезвычайно существенный: именно здесь в европейское искусство входит – без мифологических котурн в виде Судьбы и Рока – случай per se). В результате сцена нечувствительно превращается в кадр, понижается ее статус. Кадр вместо сцены случился почти нечаянно у Эдуарда Мане; шок от “Завтрака на траве” и “Олимпии” был спровоцирован взглядом в упор на зрителя голой Викторины Меран, чисто фотографический эффект которого демаскировал все классицистические ухищрения автора. Намерения Мане были достаточно невинны: он стремился, с одной стороны, осовременить то, что уже стало отдавать нафталином, оживить архетип, с другой, – при помощи того же архетипа освятить современность (читай - обыденность), но вторжением обыденности именно в миф наготы архетип сцены оказался изрядно подорван. Будь Викторина Меран одетой скандала разумеется не случилось бы: исчезла бы острота столкновения, но эффект все же состоялся бы, хотя бы уже потому, что жанровой картинке (а это был жанр) не полагалось быть такой большой. Мане ориентировался, конечно, на Гойю (и на "Концерт" Джорджоне , и на "Венеру с зеркалом" Веласкеса разумеется тоже, но в отдаленной ретроспективе), но “Обнаженная маха”, при всей ее смелости, была всего лишь портретом; здесь нагота не вступала в опасный поединок с мифом, оставаясь самой собой – вещью приватной. Живопись Мане не была такой уж революционной, его "импрессионизм" весьма сомнителен, но "демифологизацию" вкупе с демонстративной опорой на то, что доселе держало именно миф ему простить еще долго не могли. Пикассо окончательно снял требование пространственной когерентности, вовсе отменил сцену. Отныне пространством-сценой был сам холст, плоскость, на которой разыгрывают свое представление краски, линии и пятна. С.Булгаков и Н.Бердяев увидевшие в кубизме “развоплощение” (их ужас – предчувствие “Черного квадрата”) были, конечно, правы, хотя и узрели оное не совсем там, где оно было наиболее радикально явлено; им казалось, что это отказ от образности, - но образ не обязательно предполагает тело, - тогда как здесь был отказ от всех измерений (включая символическое), кроме тех, которые имеет плоскость чистого холста: верх-низ, право-лево. С телесностью связаны тематизм, - хотя и не прямо, как это может показаться на первый взгляд, а опосредовано, через свод общекультурных мифов – и экспрессия. Тематизм симметричен сознанию, это проекция когнитивной решетки. Я говорю о тематизме, а не о нарративе потому, что, как легко заметить, первый включает повествование, выступая в роли метанарратива; всякий рассказ отсылает к теме. Так натюрморт долгое время служил, как известно, полем развертывания темы vanitas, прежде чем перейти в прямо противоположное качество (par ex – в русском натюрморте начала ХХ в.; я что-то не припомню в русском искусстве черепов, которые в Европе продолжают служить сигнатурой не столько vanitas, сколько тематизма былых времен per se). Персонажи Тулуз-Лотрека также выводят нас к теме тщеты, - но не тщеты жизни перед лицом вечности и смерти, а тщеты собственных усилий опустошенной души человека найти последнее прибежище в надрывном артистическом жесте. И так далее, и так далее… Самый скользкий момент - экспрессия. Как намекает само слово, экспрессия суть моторная инспирация. Известно, что зрители спортивных состязаний воспроизводят на микромоторном уровне весь комплекс мышечных импульсов, который в полной мере им демонстрируют спортсмены; человек на трибуне или у экрана ТВ “бежит”, “прыгает”, “бросает” и “бьет” вместе с главным фигурантом агона. “Выразительность” в искусстве той же природы и основывается на готовности зрителя к психосоматическому отождествлению с персонажами картины. “Авиньонским девицам” предшествовали, как известно “Нега, покой и сладострастие”, но какое бы скандальное впечатление ни вызвал tour de force Матисса даже его до предела упрощенные синтетические формы еще оставляли простор для перцепции психомоторного толка. А вот с “demoiselles” или с “Обнаженной на лестнице” сей номер уже не проходит. 5 И вот поэтапная формула: “Авиньонские девицы” - индифферентность эстетики, “Черный квадрат” - изобразительная индифферентность, “Фонтан” - креативная индифферентность. Творение оказалось сведено к жесту; креативность автора сосредоточилась на неком тропе, редуцировалась к остроумию. Также исключалась эстетика - любая... Завхозам культуры, классикам-музейщикам все это представляется абсурдом. Они знают, что ценность произведения в мастерстве исполнителя. Мастерство маскирует усилия и пот труда, - и тем способствует скорейшему обнаружению творящего духа: дух не может потеть - он, как известно, веет.
6 В результате всех этих приключений непоколебленной, нетронутой оказалась только фигура художника-автора. Выяснилось, так сказать явочным порядком, а не в порядке дискурса, что искусство может пожертвовать всем, - но разве возможно обойтись без того, кто его делает?! Искусство кончилось, художник остался. Художник без искусства – возможно ли это? Или – иначе – творчество без искусства, но не при человеке вообще (это – само собой), но все-таки при художнике? Ответ: при авторе – да. Это будет Contemporary Art. Но, - оставшись без искусства, - будет ли автор сей художником? Подчеркиваю – художником, а не творцом.
7 Творчество ускользает от описания. Отсюда и трудности с определением того что есть и что не есть искусство; таковых было много, но они ничего не дают, поэтому их никто не помнит. Во-первых на них нельзя положиться (как впрочем и на любое определение - вспомним анекдот с ощипанным петухом Диогена), во-вторых в них остается невыраженным по существу творческий акт. Ясно, что без него нет искусства, но определить искусство через него мы не можем, разве что косвенно, например так: И. есть деятельность (равно и продукт этой деятельности) объективирующая творческий акт. Можно еще сказать, что И. есть чисто продуктивная деятельность, в то время как любая другая репродуктивна, т.е. направлена на воспроизведение, тиражирование эталона. В таком случае известное замечание В.Беньямина, если отнестись к нему всерьез, выводит СА из круга искусств вообще, но как раз всерьез относиться-то к нему и нельзя, потому что оно в корне неверно. Воспроизвести можно любой готовый продукт, будь то табуретка или Монна Лиза, это вопрос технологии и только. На задворках сознания любителей порассуждать о невозможности тождества копии и оригинала маячит призрак Абсолюта; они забывают о том, что абсолютное тождество невозможно в принципе. Все, кто читают и смотрят детективы наслышаны о баллистической экспертизе, и поэтому знают, что стволы оружия одной марки, сделанного на одном заводе, в строго заданной технологии, не бывают одинаковы, оставляя индивидуальные следы на вылетевших из них пулях. Так что тезис В.Беньямина нелеп, с какой стороны к нему не подступись. Да, любое произведение искусства несет на себе отпечаток индивидуальности его творца, но, описывая его через этот признак, мы рискуем впасть в соблазн признать пулю произведением искусства, а ствол - автором. И, тем не менее, нам дано идентифицировать порождающий акт как творческий либо как нетворческий. Способность произведения искусства провоцировать акт восприятия как встречный, - но асимметричный - творческий акт казалось могла бы послужить основой для выстраивания подходящей шкалы (случившийся диалог удостоверяет самую возможность творчества, хотя неясно, какова может быть процедура удостоверения диалога), но парадокс в том, что к тому, что именуется ценностью это обстоятельство имеет очень косвенное отношение. Ценность произведения искусства, - как, впрочем, и любая ценность, просто ценность как таковая, - конвенциональной природы.
8 У меня на стене висит картина, подписанная никому, кроме очень небольшого круга людей, не известным именем. Я автора знал лично. Я считаю этот этюд выдающимся произведением замечательного мастера, и вот уже сорок лет без малого не устаю им восхищаться. Я хочу подчеркнуть - моя оценка не зависит от упомянутых обстоятельств, это оценка по существу. Больше того - картина создавалась у меня на глазах, но я абстрагируюсь и от этого весьма интимного момента. Я знавал многих художников - хороших и бездарных, много раз был свидетелем рождения картины и могу заверить, что всего этого мне недостаточно, чтобы войти в столь интенсивное общение с произведением - для этого оно само должно свидетельствовать о себе. И оно свидетельствует, причем столь веско, что даже экспонаты почтенных музейных коллекций, принадлежащие кисти всемирно известных мастеров не подряд в моих глазах могут конкурировать с ним. Один мой приятель сказал, что я просто люблю этот пейзаж. Я был почти обескуражен. Ну да, люблю, - но ведь даже человека любят за что-то и почему-то, хотя влюбленные и любят хвастать, что мол ни за что и не почему (скажем прямо - цену себе набивают), что уж тогда говорить о картине. Все это не аргументы, и уж тем более не доказательства, в пользу того, что упомянутая картина и впрямь шедевр, но они же сильно набирают вескости стоит перевести разговор в более общий план. Мы оцениваем произведение искусства, - сначала различая его как таковое, затем располагая на некой шкале, - и все необходимые для такой оценки параметры задаются нам самим произведением. Так называемые “субъективные” факторы безусловно влияют на оценку, и подчас очень сильно (кстати, известность и авторитет того или иного произведения должны быть отнесены к субъективным факторам); сюда же относится то, что Р.Барт патетично назвал “работой траура”, попросту - память, причем она работает всегда, даже если передо мной картина Босха или Леонардо, даже если передо мной работа неизвестного художника. Также, разумеется, я ничего не смогу сказать, к примеру, о живописных качествах картины, если не буду знать из чего они складываются. Но все это наслоения, плоть, - костяк же, каркас уже задан; он есть, как говаривал в таких случаях Хайдеггер, присутствие. И никакое мое знание не создаст этих качеств, равно как и всех прочих, - здесь кто-то должен постараться до меня. Чтобы я мог оценить мастерство мастера, мастер должен что-то смастерить, т.е. не сляпать абы как, а проявить сноровку в овладении материалом, которая и позволяет оценить ее как виртуозную, или, по меньшей мере, обнаружить свои претензии на мастерство (в последнем случае легкость, у мастера накладывающая отпечаток на все произведение в целом, подменяется, скажем, нарочитой небрежностью в исполнении второстепенных деталей). Все это означает, что искусство предъявляет довольно сложную систему требований, как к исполнителю, так и к зрителю, и без нее не может быть идентифицировано в качестве такового: искусство это игра по правилам - и только соблюдение этих правил сообщает этой игре смысл и название. Игра по другим правилам будет иметь другое название и другой смысл. Например - мораль. Или - футбол. Или - семья. Или Contemporary Art. Но представляется, что в названии этой последней игры вкралась ошибочка, которая всех участников сбивает с панталыку - она в коротком словечке art. Это слово здесь не проходит даже в качестве оценочной метафоры, как, скажем, в тех случаях, когда мы говорим о мастерстве портного или боксера (“классно настучал по башке!”), ибо ни о каком мастерстве речи нет - не те правила. Однако стоит заменить в слове art одну букву, - и все встанет на свои места: act.
9 Contemporary Art это осуществившаяся мечта о “чистом” искусстве и “свободном” художнике. И, таким образом, есть утрата идентичности: удостоверить самое себя в качестве произведения искусства оно не может, равно как не может удостоверить себя в качестве творческой личности художник. Contemporary Art говорит Я, но само это Я не говорит ничего. Представьте человека, который на любой обращенный к нему вопрос отвечал бы одним этим словом. Вспомним Швиттерса с его “циничным” (эпитет приснопамятного М.Лившица) афоризмом - если бы искусствоведы хотя бы изредка заглядывали в учебники логики они бы узнали, что сей хлесткий силлогизм всего лишь нонсенс, так как составлен из пустых импликаций. Последнее замечание способно, пожалуй, заслужить упрек в некорректности: какое дело искусству до логики, - но деятели СА сами очень любят оперировать силлогизмами всех сортов и модусов, диапазон их апелляций от Аристотеля до Деррида, так отчего же не воспользоваться их же оружием. Я бы рискнул даже определить СА как воплощенный силлогизм, причем совершенно определенного вида или, как говорят логики, модуса, именуемого в аристотелевской традиции modus ponens. Модус этот указывает на возможность перехода от утверждения основания к утверждению следствия того или иного импликативного высказывания (вида если А то В, где А и В - произвольные высказывания, являющиеся соответственно основанием и следствием). Par ex.: если картина это ограниченная рамой плоскость с нанесенным на нее изображением все равно чего, то получите “Черный квадрат”. Или: если произведение искусства есть реальность, преображенная волей художника с целью лишить ее каких-либо функциональных связей, кроме тех, которые обеспечивают возможность эстетического восприятия данной реальности, то почему бы таковым - произведением - не быть писсуару, перемещенному волей художника из ближайшего общественного сортира в музей, поставленному на-попа и переименованному (и то и другое дабы не вводить публику во искушение, а также для пущего сходства с наново обретенной реальностью) в “Фонтан”? Позже СА овладело и вторым логически правильным модусом силлогизма известным как modus tollens - он вполне может сгодиться для описания таких явлений как Энди Уорхолл или Илья Кабаков; желающие развлечь себя могут взять в руки первый попавшийся учебник логики. Там же, в учебниках, они найдут ценное указание на то, что такие силлогизмы (МР и МТ) гарантируют истинность заключения лишь при условии истинности импликативной посылки, поскольку - sic! цитирую по учебнику - “многие ложные импликации интуитивно представляются истинными высказываниями” Тут как-то само собой возникает нехорошее подозрение: а не является ли сам факт возникновения СА всего лишь следствием - не логическим, а самым что ни на есть житейским, т.е. последствием - того характерного для своего времени процесса, который можно описать как протечку из верхних этажей в нижние, как просачивание философии из кабинетов, университетских аудиторий и кафедр в кабаки и салоны - привычные места обитания художественной публики? Иными словами, не есть ли СА продукт скорее вырожденной и проституированной философии, нежели процессов имманентных искусству, или - будем осторожнее - результат своего рода подмешивания в перенасыщенный раствор нового, вызвавшего бурное выпадение осадка, ингридиента-катализатора. Адепты СА вполне могут возводить свое родословие к таким почтенным фигурам как Леонардо и Пуссен - немногим безупречным интеллектуалам среди довольно дремучей художественной братии. Может и впрямь поэзии следует, как говаривал классик, быть, прости Господи, несколько глуповатой? В таком случае упрек в утрате толики простодушия может быть адресован всему Новому времени.
10 Выделение и обособление СА аналогично процессу превращения иконы в картину: СА это искусство, вылезшее из рамы, точно так же как картина это соскочившая с алтаря икона. Сбежавшей из алтаря иконе незачем изображать Бога, она может изображать что угодно и даже ничего не изображать. Покинувшему раму искусству достаточно самоназваться таковым, будучи при этом чем угодно, и даже не будучи ничем; conditio sine qua non здесь будет только наличие автора, точнее - источника декларации о возникновении в горизонте восприятия чего-то, требующего внимания к себе именно как к произведению искусства. Строго говоря, sine qua non не автор, а именно указание, жест, - но можно с чистой совестью считать автора и его жест за одно: жест без автора немыслим как хлопок одной ладони, но от автора он не требует ничего, кроме того, чтобы быть второй ладонью; математик сказал бы, что жест и автор конгруэнтны. Самим адептам СА это известно и без всякой математики, недаром одним из топосов в их тусовке стал так или иначе аранжированный эксгибиционизм. Петр, Иванов сын, Бобчинский просил когда-то Хлестакова рассказать всем в Петербурге, что есть де такой Петр, Иванов сын, Бобчинский, а ежели случиться Хлестакову встретиться с Государем, то чтобы и ему о том было сказано - живет де такой имярек. В СА любой автор - Бобчинский, произведению же назначено быть Хлестаковым, несущим благую весть urbi et orbi. В такой игре, до тех пор, пока в нее не вовлечен третий - зритель, ее участники вне какой бы то ни было критики: здесь отсутствует собственно предмет оценки. Но и зрителю не остается ничего, кроме того, чтобы либо принять правила игры, либо отвергнуть. Так в чем же его игра, его роль? Ни в чем. От него не требуется ничего, кроме того, чтобы быть зрителем - субъектом с ампутированным имяреком; он даже не функция, но символ функции - x, y, z... Происходит вторичный обвал идентичности - теперь с воспринимающей стороны.
11 Чтобы вернуть искусству вполне, казалось бы, утраченный общий знаменатель, который придал бы множеству разрозненных и бестолковых без него практик осмысленный вид потребно немногое. Во-первых, следует признать, что СА вовсе не art, а отрасль шоу-бизнеса, нечто среднее между бродячим цирком и рок-концертом. От этой операции никто не пострадает, все останутся при своем, и даже толмачи не потеряют работу, как не потеряли ее средневековые глашатаи, переквалифицировавшиеся в шпрехшталмейстеров, - зато никто не будет путать Божий дар с яичницей, палец с жопой, и Энди Уорхолла с Леонардо да Винчи. И прекратится весь этот плюралистический свист с трибун о всеобщем художественном равенстве, от которого прок только шарлатанам, перекачивающим лишние денежки из карманов богатых и не очень богатых дураков в свой, - впрочем и они не останутся без дела, как не остались без дела бродячие фокусники, превратившиеся в копперфильдов и бездомные придурки и юродивые, ставшие чаплиными и енгибаровыми. Надо признать, наконец, что СА такая же машинка по производству успеха, как любая другая рентабельная по определению деятельность, будь то торговля пирожками вразнос или глобальные финансовые спекуляции a la Сорос. За что и будем ему благодарны - оно неплохо нас развлекает (а склонных к глубокомыслию еще и поучает). Шуты не создают королевского достоинства, но без них ему не за что было бы зацепиться: мантия висит на плечах и прикрывает задницу. Но если шут становиться королем, то корона переселяется с чела на жопу. Пикассо был и художником и шутом, Малевич - перемудрившим мудрецом (мудрецам и пророкам часто отказывает чувство юмора), Дюшан - великим шутом, высмеявшим их всех, а заодно и публику. Энди Уорхоллу повезло меньше - ему досталась роль коверного в дешевом балагане, но отдадим и ему должное - он достойно справился со своей ролью. Чего еще надо? И второе. Пора отменить культ этой посмертной гипсовой личины, этого самозванного адресата всяческих мемориев, этой рубрики для анекдотов, этого квазибренда - имярека. Пусть хоть сто семь городов спорят о том, где родился Гомер, а растаманы доказывают, что Христос был эфиопом, - но живет Гомер в “Илиаде” и “Одиссее”, а Иисус - в каждом, кто хоть раз нашел в себе силы не ответить ударом на удар. Председатель комитета по культуре при Веймарском обкоме Гете интересен нам лишь постольку, поскольку мы уже знакомы с ним - Вертером, Гецем фон Берлихингеном, Фаустом. То, что художник сделал не только, и даже - не столько удостоверяет его личность, сколько присваивает ее. Вне плодов своего труда художник не личность, а всего лишь индивид. Если ваш сосед спьяну отрежет себе ухо, он не станет от этого Ван Гогом - не тем несчастным сломленным нехудожественностью мира бомжем, который некогда мыкался под этим именем, но тем, кто сумел навсегда поселиться в сумасшедше-красивой ночи и в кувшине с подсолнухами. Имя - только комбинация букв на табличке под звонком; “роза будет розой - хоть розой назови ее, хоть нет”. В наше время это, правда, еще и счет в банке, но к сути это имеет столько же отношения, сколько Шакспер к Шекспиру; Гамлету на это наплевать. Если завтра мне скажут, что Рембрандт был геем, а Даная - портрет его любовника, сама Даная от этого не покраснеет и покрывало на себя натягивать не станет, и сие никак не зависит от того, кто что скажет, ни даже от того, был ли Рембрандт и впрямь педерастом или нет. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что подобный поворот коллективного сознания как одномоментный акт неосуществим. Я не уверен и в том, что в нем вообще есть нужда. В признании СА искусством есть свои прелести, с которыми жалко расставаться: в конце концов и здесь есть свои зерна и плевелы. Меня беспокоит другое, а именно закрепление за СА своего рода метафизического статуса в мозгах интеллектуалов, ведущее к тотальной коррупции интеллекта, когда как раз те, кому на роду написано заниматься отделением зерен от плевел забывают о своем предназначении.
12 Из всего здесь сказанного может сложиться впечатление, что я считаю СА этаким тотальным заблуждением, помрачением разума, массовым гипнозом etc. Отчасти это так, но только отчасти. СА не фантом, а интегральный итог - вот мой тезис. Заговоры, заклятия и прочие чуры здесь не в помощь. СА не болезнь, не вывих культуры, а если болезнь и вывих, то хроническая и привычный, - и тогда вся культура есть болезнь и вывих (к слову, весьма популярный со времен Ницше взгляд). Я хочу также предостеречь от эпитета “закономерный” в применении к слову “итог” - в частности, здесь, в разговоре об искусстве, но также и вообще от этого словосочетания. Я полагаю, что никаких “закономерных итогов” попросту не бывает. “Интегральный итог” тоже не лучшее определение, но оно нейтрально, лишено апокалиптического привкуса, и поэтому лучше соответствует моему отношению к предмету разговора. Я полагаю фундаментальным заблуждением то, что СА оценивается как адептами так и противниками по шкале искусства; точно так же ошибочно полагать автора в СА художником. СА это тяжелый случай того, что сброшеный с корабля современности Маркс называл “товарным фетишизмом”, или, чтобы не пускаться в длинные объяснения, просто случай фетишизма, и - вместе - следствие фетишизма, итог. Художник и искусство в европейской культуре единственно уцелевшие сакральные фигуры. Бог и Истина умерли, а Искусство и Художник живы - вот пафос и этос СА. Все псевдоморфозы порождены, - психологически очень понятным, - нежеланием признать, что в нашем (не мистическом Божьем, а поддающимся описанию и исчислению) мире художник - это всего лишь социальная роль, а искусство - товар, а не священные в силу того только что причастны творчеству, фигуры. Когда-то художник был подмастерьем творца-Бога (Средние века); потом он стал его, Бога, соавтором (Ренессанс); потом он сам стал Богом, выступив под псевдонимом Гения (Просвещение, романтизм). И вот с этой последней должностью он никак не хочет расставаться. Наиболее разительный пример Гения, и одновременно фигура связующая обе сферы - традиционного искусства и СА - Сальвадор Дали. Консерватор, реакционер и реставратор в том, что собственно составляло материю его творчества, единственный из общепризнанных метров ХХ в. не обогативший язык живописи ни одной новой живой нотой, инкарнация трюкача Арчимбольдо (а вовсе не Босха, как это представляется профанам, или Вермеера, как хотелось убедить всех ему самому) он функционировал как деятель СА, став своего рода верховным иерархом этой церкви, ее святым и папой одновременно. Рискну утверждать даже, что без него, - его неистового честолюбия, титанического и самоотверженного самоутверждения (прошу прощения за случайный оксюморон) импульса, заданного Дюшаном, Малевичем, Швиттерсом, Моголи-Надем и др. скорее всего надолго не хватило бы: слишком уж их творчество отдавало рационализмом и позитивизмом. Чтобы стать самим собой СА нуждалось в иррациональном, в мифе. Им и стал Сальвадор Дали. Этот пассаж, особенно поклонникам Сальватора Дали, может показаться пренебрежительным, поэтому считаю нужным дать некоторые разъяснения: феномен Дали невмещаем в рамки привычных представлений о живописи, он между, на стыке традиционного искусства и СА, причем, будучи связующим звеном, в то же время выступает в качестве антитезы им обоим. Думаю, сам Дали согласился бы со всеми эпитетами, которыми я его наградил, исключая, разумеется, сравнение с Арчимбольдо. Но и оно, если присмотреться, не уничижительно: трюкачество вовсе не противопоказано искусству. Так, начиная с Возрождения, или даже чуть раньше, вся европейская живопись стоит на трюке оптического обмана. Который Дали, собственно, и вернул в обиход. И еще один фактор был необходим, чтобы окончательно сформировался феномен СА. Он называется “общество потребления”. Общество, в котором 5% (а в США и вовсе, кажется, 2%) населения способно прокормить (и недурно) оставшиеся 95% искусство неизбежно должно было стать частью индустрии услуг. Чтобы обозначить свою “свободу”, - на этот раз от mass media, художник был обречен пуститься во все тяжкие, лишь бы не быть интегрированным ею. Символической фигурой на этом направлении стал Энди Уорхолл (вот он modus tollens, следствие, отрицающее основание). Отсюда и фатально шизофренический характер СА, который, похоже, стал пунктом обретения идентичности для автора. Вот и искомый ответ: СА это религия и церковь для утратившего идентичность человека-творца-художника. A также: секта наподобие Дианетики или сетевой маркетинг, блестяще организованный и чрезвычайно успешный.
13 Потребность человека в творчестве (предположим, что она заложена в человеке генетически, хотя это не факт) удовлетворяется отнюдь не только в рамках т.н. “художественной” деятельности, равно как сама эта деятельность вовсе не гарантирует участникам причастности к творчеству; рутина, поденщина и здесь явление обыкновенное. Искусство почтенный институт, принадлежность к которому дает индивиду все преимущества “сильной” социализированности, а значит надежную идентичность. В нашем мире две фигуры символизируют успех в чистом виде - художник и бизнесмен. Но художник в отличие от бизнесмена, благодаря СА, социально безответственен. Искусство, пройдя в горниле модернизма возгонку в тонкие субстанции СА, стало так сказать экстерриториальным, а творческий акт - неподсудным никаким инстанциям. Достаточно заранее объявить тот или иной сколь угодно экстравагантный и шокирующий хеппенинг “художественной акцией”, а главному фигуранту назвать себя автором, - и всякая власть жухнет и никнет. Подчеркиваю - всякая, не только политическая, но и, в первую очередь, власть здравого смысла. Впрочем, до нее искусству уже давно никакого дела нет. “Верую ибо абсурдно” - раньше это относилось к Богу, теперь к искусству. Принимающий на веру СА ампутирует свой ratio, а заодно и common sence и прочие reasons. В политике апелляция к “коллективному бессознательному” клеймится как опора на “низменные инстинкты толпы”, в СА она же - обязательная технология.
14 Хайдеггер полагал, что афоризмом “Бог умер” Ницше положил предел европейской метафизике, подвел черту. Сам Ницше покушался скорее на христианство, хребтом которого полагал мораль; упразднив мораль, считал он, мы покончим с рабством во Христе. Ницше недооценил способность человека противостоять искушению свободы (вслед за ним в ХХ веке все аспекты этого сильнейшего фактора подвергли тщательному рассмотрению такие люди как Шестов, Бердяев, Поппер, Канетти, Фромм). В том веке, которому принадлежал Ницше, со смертью Бога освободилось - и тотчас было занято - место не свободе, а новому язычеству. Назовем его “фетишизмом культуры”; место духов природы (древнее язычество) заняли духи культуры: Наука, Искусство, Прогресс, Либерализм, - во главе с новым Юпитером - Духом Времени (и пророком его Гегелем). Их власть длилась на удивление недолго и обратилась в прах в мировой войне. Но навык фетишизма остался. Искусство успело создать себе алиби еще до того, как рухнули прочие фетиши: трудами своих ницше - Пикассо, Малевича, Дюшана - оно казалось бы упразднило себя прежде всего именно в качестве фетиша, но случилась негаданная парабола (кто же мог предугадать, что прочие кумиры сгинут в одночасье?) - и самоубийство обернулось ритуальным омовением. Искусство сохранило свои белые одежды в чистоте. Существенным оказалось и то, что искусство никого никогда не убивало, разве что фигурально. Художнику, чтобы стать злодеем следует прежде сменить кисть на более пригодное для убийства орудие. А вот политики, ученые и прочие полезные люди отличились в этом деле, так сказать, не отходя от станка. Пикассо конечно хулиган, но полтора миллиона трупов под Верденом - не его работа; тут постарались люди благонамеренные и хорошо воспитанные. И вот в результате такой игры таких обстоятельств искусство оказалось вполне фетишеустойчивым. Европейская культура - система фетишей, а фетишизм глубоко укоренившийся навык, функция этой культуры. Сказав “Бог умер” Ницше поступил несколько легкомысленно, упразднив таким образом одним махом все фетиши, поставив под вопрос всю европейскую культуру разом. Европа строила себя при помощи ценностей-констант, того, что представлялось так или иначе замкнутым на вечность - область сакрального, внепространственного и вневременного, а значит неизменного и надежного абсолютно. У истоков европейской культуры лежит онтологический испуг Гераклита и интеллектуальный аутотреннинг преодоления этого испуга Парменида-Платона, к которым, с христианством оказалась привита иудейская сакральность сверхприродного. В глазах европейца ценно то, что не зависит от обстоятельств - вот максимально очищенная от религиозной патетики и интеллектуальной натуги базовая интуиция его культуры. Самодисциплина европейского духа, натурально так же состоящая в преодолении интенциональной привязки к обстоятельствам (к слову, индийской тоже, но в отличие от чисто ментального усилия европейца индус прибегает к сложному комплексу психофизического тренинга - йоге) мешает увидеть явное - в основе может лежать и прямо противоположное отношение к вещам, когда ценно именно преходящее, даже быстропреходящее, мимолетное, мгновенное, случайное; не импрессионизм, но - Япония. Европе оно было ведомо и до того, как она прельстилась на экзотику буддистского Востока, но лишь как периферийный коррелят, поэтический обертон, флер тоски по les temps perdu.
|
У Элиота речь идет о поэзии, но данный пассаж годится для того, чтобы распространить сказанное в нем на все искусство, - что я и сделал, подменив выделенные курсивом слова.
То ли забыто, то ли не прочувствовано, что утопия Платона, будучи с виду проектом из области социальной инжинерии, была по сути проекцией эстетики, поскольку, как это блестяще продемонстрировал А.Ф.Лосев, античная философия сама была эстетикой par exellence. И в какие бы одежды Утопию не наряжала История - все это оставалось эстетикой и стилем.
Радикальность состояла в отказе от концептуализации собственного творчества, - главной области попечения таких более деятелей и мифотворцев нежели художников, как Малевич и Дали. Пикассо не заботил фактор мейнстрима, он сошел с самим же в тупик протореной тропы вбок, - и тем самым обозначил вьяве парадокс сущностной маргинальности творчества. Но грандиозность фигуры (Пикассо сам стал мейнстримом) заслонила эту едва ли не самую драматичную и парадоксальную коллизию не только искусства, но всей современной культуры в целом - противостояния пути и обочины, - и превратила ее в перевертыш. Теперь с этим можно было играть. Обозначилась ситуация, осознанная и имя себе заполучившая лишь полвека спустя - постмодернизм.
Забавно, что романтический ненавистник фотографии Бодлер в романтическом же упоении реализмом Мане его фотографичности не увидел. Очень поучительный парадокс. Недавно, в приватном разговоре с одним крупным искусствоведом, я обратил внимание на этот куръез, и мой визави, отлично знакомый с творчеством Мане, после минутного замешательства, признал справедливость моего наблюдения - при том, что у него самого никаких фотографических ассоциаций ни "Олимпия", ни "Завтрак" до того не вызывали.
Классическая эстетика имплицитно исходила, главным образом, из тематизма, будучи попыткой рассказать “о чем” искусство.
Навык антропоморфизма восприятия действует и там, где нет прямого присутствия человека - в пейзаже или натюрморте; мы везде подсознательно видим лик и фигуру.
Разумеется “demoiselles” это ответ Матиссу, карикатура на "Негу...", разбитое зеркало; экспрессия здесь не отменяется, но перестает быть комплиментарной: оплеуха взамен приглашения к пиршеству. Позже Дюшан заменил шок заведомо непосильной для перципиента задачей разрешения ребуса, ключа к которому нет.
Культура все более и более впадает в нарциссцизм и порождает уже не ценности, но - культы, т.е. сводит себя к культу. Культу себя; мы почитаем в нем не некую высшую и регулирующую ценность (смысл любого культа, в том числе того, который имел в виду Остап, когда отнимал у Паниковского огурец), но лишь саму возможность предаваться этому благородному по определению занятию.
Музеефикация или архивизация - вот to be or not to be культуры. Первое очевидно невыполнимо; хотя мы очень азартно стараемся, - но ведь невозможно даже представить себе цивилизацию-музей. От второго воротит с души прежде, чем успеваешь сообразить, что это тоже невозможно.
Новое время довело до ритуальной чистоты процедуру выставки - временной музеефикации, мостика в архив. Отсюда, сошедшимся в бесстыдном публичном плотском соитии, или (в высоком изводе) - в предваряющем таинство брака венчании (не правда ли, вернисажи очень напоминают свадьбы: торжественное и трепетное начало - и разгул в конце), - имяреку прямая дорога в архив, произведению же кривая тропка то ли в чащи (jungle) забвения, то ли в оранжерею музея; есть и привлекательный вариант частной коллекции (garden). Остается решить маленький вопрос, неназойливо вылупляющийся из этой метафоры (есть же все-таки в них толк, чтобы там ни нашептывал нам Р.Барт): что здесь выступает в качестве мужского начала, а что - в качестве женского, и какие, собственно, гарантии, хотя бы только в проекте, предоставляют брачующиеся друг другу? Имярек ли дарует произведению музейный пансион или совсем наоборот - продукт обеспечивает имяреку архивную льготу? Жест Марселя Дюшана и не менее скандальное речение Курта Швиттерса ("Все, что я нахаркаю - искусство, ибо я художник") поставили этот вопрос перед ошарашенной публикой.
Искусство не стало в Новое время тиражируемым, - оно всегда было, или по крайней мере старалось быть иражируемым, - оно стало легко, корректно и рентабельно тиражируемым.
Как художник Дали всего лишь вернул искусству отнятое его предшественниками: иллюзионизм и тематизм (точнее его призрак - фигуру, жест и риторику), - но приведя их к абсурду, сделал практически невозможной экспрессию. Его творчество настолько герметично, что исключает самую возможность соучастия. Недаром оно так популярно у законченных "технарей" - людей с пониженным эмоциональным тонусом. Также эта индиферрентность роднит его и с СА.
|
|
|
Впередисловие | MainStreet | Problem | БочкаДёгтя | ЛожкаМёда | Недодуманное | Ф-мания | Словарь | LiveJournal | SiteMap | Email
|