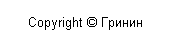|
ВЕНИЧКА
“Мой равный, мой Господь! Проклятие
Тебе!”
Ш.Бодлер. ”Плаванье”
Венедикт Ерофеев жил в эпоху, когда пафос - любой,
просто как таковой - был так же неуместен, как в эпоху предшествующую
шутки с женщинами. Еще эта эпоха (т.е. наша эпоха) умела обходить
все запреты, в том числе и те, которые сама себе предписывала.
В лице Ерофеева она обошла запрет на пафос. Веничка сделал
это очень просто - он возвел пафос в квадрат, перемножил его
на самого себя. Ничего более патетического, чем творчество
Венедикта Ерофеева мировая литература не знает. И дело тут
не в количестве восклицательных знаков в абсолютном ли, в
относительном ли - скажем, на один печатный лист, - исчислении.
Пафос - безнадрывный, чистый, высокий, в цицероновском смысле
- главный, если не единственный источник его творчества, и
вместе, его интенция. Напомню, что слово “пафос” обозначает
некую характеристику речи, произносимого слова, которое всегда
от первого лица. Вот почему Ерофеев не стал прятаться ни за
какой псевдоним, не стал утруждать себя созиданием каких бы
то ни было alter ego: это значило бы рубить сук, на котором
сидишь.
Веничка появился тогда, когда русская интеллигенция
перестала скучать по народу, маяться в тоске оттого, что безнадежно
далека она от него. “Отпустило” ее потому, что она обрела-таки,
наконец, некую мистическую (самую крепкую из всех, ибо она
не требует никаких a priori) связь с ним - в алкоголе.
Венедикт Ерофеев моралист. Отсюда и пафос; утверждение
всякой морали сопровождается сверхусилием - отчасти волевым
и только отчасти интеллектуальным - преодоления перманентной
расслабленности обыденного сознания в различении добра и зла.
Интеллект дополняет это “раздражение” своей неспособностью
разрешить без посторонней помощи, не прибегая к теологическим
и метафизическим уверткам и уловкам, проблему относительности
всякого морального выбора. В конечном итоге все мы оказываемся
в той или иной степени волюнтаристами, когда от умственных
затей переходим к делу, к тому, что непосредственно затрагивает
нашу жизнь. Моралистами становятся те, кто всем существом,
нутром, прочувствовали этот проклятый релятивизм - и ужаснулись.
Человек, верящий в то, что добро и зло есть абсолютные величины,
– если он не зануда, - не будет суетиться на темы морали;
не будет он и выяснять, что есть добро и что есть зло - ему
это и так ясно. Но Веничка попал в дом Облонских, где ”все
смешалось”, и его это никак не устраивало. Ему хотелось, -
истово и страстно, - чтобы добро и зло были по-детски ясными
и простыми, чтобы переживание было не экзистенциальным - со
стиснутыми зубами, - а сентиментальным. Иов наших дней – Иов,
потерявший адресата своего проклятия - Веничка вряд ли догадывался
об истинном масштабе своего замаха, которого достиг именно
благодаря пафосу.
Как-то, с экрана телевизора, Е.К.Чуковский, со слов
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, рассказал поразительную в
своей изысканной символичности историю, случившуюся с самим
Шостаковичем. Дело было в начале войны. Шостакович получил
повестку в военкомат и честно по ней явился, готовый к защите
Родины. Но медкомиссия его забраковала. Таких - не годных
по состоянию здоровья - оказалось в тот день трое. И вот эти
трое, выйдя из военкомата, переглянулись - и ни слова не говоря,
направились в ближайший гастроном, где, молча, скинулись “на
троих” и купили бутылку водки. Затем они пристроились в ближайшем
парадняке, где, все так же молча, распили из горла эту бутылку.
После чего, так и не перемолвившись ни единым словом, разошлись.
Не правда ли, здесь в Д.Д.Шостаковиче угадывается Веничка?
Да и все остальные члены этой “святой” троицы его ипостаси.

Zcsarkowsky - Looking for photography.
(мы опять опоздали)
(Шарковски, - а не Жарковски, как у нас
повсюду пишут; но тут сами американцы виноваты - прислали
запрос: как Zcsarkowsky по-русски писать в каталоге - ? Андрей
Наследников, куратор, мой сосед по Эрмитажу и приятель и соумышленник
в фотографии, который выставку затеял, посоветовался со мной
и мы сообща решили - как - и отписал; еще и у самого John'a
(он на пенсии, впрямую в деле не был, и некоторые подробности
от него ускользали) удостоверился - как в слове" шоу"?
- Yes, said John; рисуем им на факсе большую букву "Ш"
- оттуда: как зеркальное "К"? - Наследников бегает
по потолку "NO - Ш!!!" - присылают каталог с "Ж";
сrazy, говорит Наследников; на пресс-конференции по случаю
вернисажа М.Б.Пиотровский совокупно с: консулом, представителем
МОМа, куратором с американской стороны Питером Галасси и все
тем же Наследниковым минут пять развлекают журналистскую братию
исследованием вопроса о "Ш" и "Ж"; я корчусь
на последнем - самом верхнем - ряду, на втором, подо мной,
корчится Наследников; нашей прессе тоже оказалась ближе "Ж"...)
Тридцать лет назад поляк-американец
Джон Шарковски издал альбом "Looking for photography"
- 100 фотографий из собрания МОМа (он там тогда заведовал
соотв. отделом), снабдив каждую собственными комментариями.
Книга сразу стала культурной сенсацией, схлопотала кучу всяких
премий, несчетно переиздана повсюду неисчислимыми тиражами,
и служит до сих пор образцом для изданий подобного рода. Она
и впрямь замечательная. Автор?! Умный, тонкий, увлеченный
и совершенно чуждый какого-либо снобизма знаток своего дела,
- такие люди всегда большая редкость, а уж в наше-то гротескное
времечко и подавно.
Выставке должно было бы состоятся, и именно у нас,
тогда, в 73-ем: глядишь, другая была бы у нас фотография сегодня,
не такая позорно провинциальная и вторичная, кулинарно-кондитерски-"художественная".
Тогда мы еще не были возомнившими о себе хамами, снобами и
шутами, желание быть "большими" еще не заскорузло
в клоунском подражании походке и повадке, мы были простодушны
и чутки ко всему, чего еще не умели - и чего еще не видали.
Позорный, если вдуматься, факт: на вернисаже из всего питерского
фотобомонда отметились едва с десяток фигур, 10% на вскидку,
и за прошедшее с тех пор время я еще ни разу не наткнулся
на свидетельство того, что остальные вообще на ней побывали.
А зачем? - мы Барта наизусть знаем! Побывали, конечно, но
помалкивают. Она осязательно против нашей матерой фотошерсти
на нашей жирной фотоморде, она о том, что фотография сильна
и прекрасна своей честностью и достоверностью, то есть тем,
что мы либо растеряли, либо не удосужились обрести.
Итак, выставка по книге, сто листов ста авторов. Плюс
еще 25 добоя картинками, представляющими годы с 73-го по 03-ий.
От дагерротипа до цифры (почти, ладно - до полароида). Фотография,
как и графика, полиграфическому репродуцированию не поддается.
Оригинал - vintage, авторский отпечаток - самоценен. Имеют
значение размер и, соответственно, расстояние между "окном"
и зрителем. Все имеет значение на очной ставке с тем, что
и как увидел - и постарался до тебя донести не расплескав
живой воды, разве чуть согрев (только - чуть, ибо и это запрещено,
но почти невыполнимо) теплом себя - не ты и не АВТОР, а просто
ДРУГОЙ, - поверивший черт знает почему, что наше с виду такое
убогое, неказистое и случайное пребывание в этом мире - скользком,
текучем и убегающим от нас, - чего-то стоит. Что в нем есть
и достоинство и красота. И жизнь. Что человек это не только
предательство самого себя, а мир - не только подвох и напрасное
искушение. Что горизонт прекрасен именно своей недостижимостью,
а не окурками, усеявшими дорогу к нему. Обо всем этом говорит
фотография. Все это - сама фотография, а не только, и даже
не столько, что мы видим на картинке. На картинке может быть
все что может, нет - СМОГЛО - быть. Но когда на картинке именно
ЭТО, тогда и происходит событие - очная ставка - которое и
есть фотография. И тут уж всякое вилянье и ерзанье и всякие
ужимки как на ладони: в сравнении с ЭТИМ они только и есть
что - вилянье, ерзанье и ужимки.
Описывать фотографии словами бессмысленно. Можно описать
только то, что они значат для тебя. Что и сделал Шарковски,
попытавшись - и убедительно - быть столь же честным по отношению
к фотографии, как она умеет быть честной с нами.
Перечислять особенно меня пронзившее тоже никакого
смысла нет. Ну процитирую я две трети списка, отпишу, вдогонку
John'у, - и может не хуже - чего-нибудь в меру глубокомысленного...

Эшер
или
Игра о художнике не
для художников и о зачарованном пространстве
...То есть,
об Эшере как любопытном случае успеха-непризнания и любви-непонимания.
Сам факт его выставки в Эрмитаже несколько странен и кажется
больше событием из дипломатической жизни, а не художественной.
Братия художественная относится к нему в лучшем случае снисходительно.
Это художник для детей и технарей. Капица-младший сделал о
нем как-то "Очевидное-невероятное", где то ли картинки
Эшера поясняли самые завиральные научные гипотезы, то ли самые
психанутые ученые толковали его картинки с точки зрения своей
психанутости; плюс-минус-мерность пространства сильно действует
на воображение тех, кто упражняет его не только при помощи
Плейбоя или ужастиков. А так как, то, что принято называть
"художественным языком" (идиотское словообразование,
не то плеоназм не то оксюморон) у Эшера намертво застряло
в модерне, то получается, что и со временем у него какие-то
не-мерные отношения. Он архат, отшельник, даже не на обочине,
а где-то в пещерах. А еще он смахивает на старого мастера-
часовщика, сидящего за стеклом и с лупой в глазу где-нибудь
в тупичке гиперсупермаркета и молча, одним лишь ласковым и
выпуклым взглядом заворачивающим обратно тех, кто суется к
нему со своими жидкими кристаллами, потому что его специальность
- аристократическая механика брегетов.
Все европейское искусство стоит на зависти к пространству
(как европейская ментальность - на ревности к времени), на
подражании скульптуре и театру, т.е. на трюке иллюзорности.
Эшер, - через игру с затейливостью орнамента, такую модерную,
а до того как столкнувшийся с подвохами перспективных построений
рисовальщик классических ведут - обнаружил, что этот трюк
заслуживает прежде всего - трюк ведь! - игры. Он вычеркнул
из искусства - на круг, т.е. из творчества и собственной жизни
тоже - героизм борьбы и позы, всю эту гигантомахоманию драки
всех со всеми: героев с судьбой и богами, людишек с тараканами,
мышей с котами, авторов со славой и художников с пространством.
Он сделал то, что в то же время, на другом конце света сделал
другой отшельник - библиомонах Борхес. Они оба с поистине
дзенским простодушием открыли, что материя и стихия творчества
- игра. А не натуга. Заратустрами оказались они, а не душители
львов и гидр.
В "Маленьком принце" есть персонаж, который
все время говорит о себе "я человек серъезный".
И Эшер и Борхес, с виду сами такие "серъезные",
на деле - насмешка Маленького Принца над скукой и натугой
"серьезности" больших букв и гипсовых кубов. Собственная
же их серъезность в истинно детской (дзенской) сосредоточенности
на игре. Они как тот стрелок, что стоит на цыпочках на краю
пропасти и, не замечая ее, пускает стрелу за стрелой в цель
- и всегда попадает.
Или канатный плясун Заратустра.
Или - Бах.

Sir
Paul
(по свежему следу)
Сейчас 1-ый канал гонит фильм о концерте
Маккартни на Красной площади в прошлом году. Естественно сравниваешь.
Ловишь совпадения и различия. Их много - и тех и других. Кажется,
что там он пел хуже, что у нас было круче.
Я понимаю, что это некорректно: нельзя сранивать экран
ТВ с живым концертом, на котором ты только что побывал. Я
помню, что довольно скептически воспринял тогда восторженные
отзывы тех, кто побывал на том концерте. Это слишком сильно,
когда сбывается мечта - ты видишь и слишишь ЖИВОГО, НАСТОЯЩЕГО
БИТЛА, и конечно забываешь, что он уже не тот, и ты тоже уже
не мальчик, который шалел когда-то от любых полутора тактов
любой песни спетой ЭТИМ голосом, и вообще - другое время.
Мне казалось, что они ослеплены и оглушены сбыванием мечты,
попросту некритичны. Я не верил, что мечта - все таки, как
ни крути, продукт подверженый порче наравне со всем в этом
мире - если и не протухла, то всяко подвяла. Я не верю в вялые
мечты, не принимаю их.
Поэтому я боялся идти на этот концерт, и даже почти
не расстроился, когда за три дня до подвис с билетами. Я боялся,
что с моей привычкой быть все время настороже и не дать себя
провести я стану не участником музыкального события, а всего
лишь свидетелем пусть мастерской, но все же имитацией оного.
Что я увижу ходячий и поющий памятник сэру Полу Маккартни.
Что этот заученный всеми до автоматизма ритуал "рок-н-ролл
жив" будет терзать меня своей фальшью. Это было бы концом
мечты - так мне казалось, и конечно я боялся этого.
Но не пойти я тоже не мог. Чем ближе был день "Х",
тем более немыслимым становилось, что вот у меня под боком,
просто почти в моем доме, будет человек, с которым так много
связано в моей жизни, великий (ты знаешь, как я не люблю этого
эпитета, но здесь без него никак) музыкант, - и меня не будет.
Абсурд. Я просто не знал бы, как посмотрю в глаза моим друзьям,
что им скажу, каким безнадежным снобом окажусь, без всякого
алиби, без возможности оправдаться. Да черт с ними, с друзьями,
- я сам себе не смог бы этого простить.
И вот со всем этим, и с Катей для поддержки, я явился
на Дворцовую примерно за полчаса до назначенного времени...
И полтора часа пребывал в смеси мандража с предвкушением:
что же это будет, и когда, черт побери, начнется?! И, по-моему,
все эти тыщи людей вокруг были точно в таком же состоянии,
включая мандраж. Все смотрели на небо (то капало, а то прилично
поливало), трепались, разминались, искали друг друга в толпе
при помощи мобильников. По сцене и по башням ползали техники,
и по их передвижениям толпа пыталась угадать как скоро все
начнется.
Началось в 19 с минутами. Слева, в промежутке между
циклопической коробкой похожей на ангар для дирижаблей сцены
и вровень ей ростом и нашпигованностью светом, звуком и экранами
башней, поплыли - оттуда к нам и вокруг всего этого черного
железа - большие голубые шары с желтыми лунами, солнцами,
звездами и месяцами: цирковой пролог. И на сцену тоже высыпал
цирк - сначала клоун на ходулях в желтой (кажется) рубахе
и полосатых штанах, а потом сфетофорно раскрашеные-разрисованые
попрыгунчики, плясуны, блестящие герлс в ажуре и диадемах,
гимнастка в голубом, - богатом, цвета неба на закате - трико
улетела плавно вверх и там кувыркалась весьма изящно. И все
это под дискотушно разсэмплированный музон ожидаемого сэра.
Вобщем цирк, балаган, потешки... За ним, за цирком, фонил
этакий форганг метров 30-ти вширь и в два роста вверх. Наконец,
накувыркавшись, все это угомонилось в ноль, форганг уполз
- и НАЧАЛОСЬ.
Как вдарил "Jet" из BAND ON THE RUN!
И я улетел, и все забыл - все свои дурацкие упаднические
мыслишки.
Дальше были 150 минут когда все летали, торчали, плющились,
тащились, пищали, орали, плясали, размахивали руками, - вобщем
были как дети на елке, когда взрослые свалили покурить и поумничать
об сексе и авто.
Был и призвук ностальгии. Я все-таки успевал поглядывать
вокруг - и много было таких как я "уженемальчиков",
старавшихся не очень раскисать в сантиментах (энергетика всего
происходящего не очень-то давала раскисать), но сантименты,
- т.е. попросту нажитое и отложившееся в поношенности-порепанности-оплывшести-перекошенности
наших фэйсов, плешей, бород и седин, - мерцали таки из под
пепла и перхоти. И был от главного мага посыл (message, как
сейчас, растерявшись в собственном языке, стали все говорить)
- кивок, подпитка этой тосклинке, я уверен не случайный, а
тонко расчитанный и не прикрывающий малодушно осознание того,
что все мы вместе с ним самим уже не те и не там: исполнение
старого битловского хита We Can Work It Out - некогда мощного,
жесткого, напористого - на пересмыкающихся не от крика, а
от бессилия связках, так, что защемило почти до слез. Но это
был только момент. А все остальное било, пульсировало и перехлестывало
через край, как и полагается рок-н-ролу.
Конец всему этому роскошному безобразию был подстать
- такой же роскошный и щедрый. Вроде бы раскланявшись и распрощавшись
сэр Пол сотоварищи еще трижды бисировали, и не одиночными
выстрелами, а очередями таких богатых десертов, что хватило
всем, даже таким жадным обжорам как я. "Мало?" -
спрашивал на прикольном русском сэр, - и выдавал новую порцию.
Теперь, уже припоминая и анализируя, я понимаю - и
ценю! - как тонко, точно и мастерски все это шоу умышлено-устроено
и, разумеется, исполнено. Артистизм и мастерство уровня зашкаливающего
- при том, что они в подкладке, а не "упереди планеты
усей". Впереди - пульсирующая фонтанирующая радость жизни.
Она не чурается грусти и даже тоски, и не растворяет не поглощает
ее в пустом тотальном жеребячестве, но обогащается и возвышается
ею до степени подлинного, не наигранного, не котурнового величия.
Бодряческий слоган "есть еще порох в пороховницах"
здесь не проходит. Тут другое. Нам даны жизнь и радость, нам
дано вместить, сохранять, нести и отдавать их - и Маккартни
это делает. И время тут бессильно; все эти дурацкие подробности
- возраст, дряблая мышца, просевший голос и т.д. и т.п. -
не играют, непричем. Им просто не остается места; ничему,
что хоть как-то, хоть мизинцем угождает унынию - не светит.
Жизнь - праздник. Точка. Пол Маккартни это знает - и делает.
Очень многое, что раньше, до вчерашнего вечера, я был
склонен поставить сэру в упрек теперь обернулось достоинством.
Он меня убедил. Как ныне очень полюбили говорить футбольные
тренеры и нахрапистые политиканы - "абсолютно".
Сэр заслуживает титула каждым своим движением. Его бесконечная
доброжелательность, прежде казавшаяся мне укорененной в конформизме,
в инфантильной хитрости угождения взрослым, чтобы те оставили
дитяте его игрушки, теперь, - я вижу, - есмь поистине кантовской
пробы вежливость на круг, без исключений. Отсюда и все комплименты
и реверансы публике, пусть уже заученные почти, но не до автоматизма,
и всегда безупречно, без фальши, исполняемые. И это не маска,
не кривляние, дескать я свой в доску. Никакого панибратства.
Быть суперстаром - работа, и он ее честно делает, зная, что
это всего лишь работа. И не показывает, что он устал, что
ему все надоело, что его достали все эти придурки немузыкального
племени, до которых ему никакого дела нет, а они все лезут
и лезут. Характерно, что среди тех тыщь, которые пришли к
нему на пир, не было голытьбы, быдла, жлобов и отморозков.
Зато многие пришли с семьями. Сэр - для семейного просмотра.
И умеет не подлаживаясь ладить со всеми, без различия пола,
возраста и поколений. Сэр нас воспитал (а не только развалил
СССР, как это следует из фильма про концерт в Москве - тоже
мне велика заслуга). И сделал это легко - своей музыкой и
безупречным образом. А ведь он отнюдь не пай-мальчик.
Музыка? Он Матисс в музыке. Совпадает почти все. Я
допер до этого только сейчас, вот пока трудился над собственными
впечатлениями и ощущениями. Эту тему, право, стоило бы развить,
но конечно не сейчас.
И еще, напоследок. Его часто называют экс-битлом. Это
неправильно. Никаких "экс", ничего бывшего, ничего
вообще в прошлом времени, все только в настоящем, поскольку
он сам есть НАСТОЯЩЕЕ. Во всех смыслах.
Поэтому-то мы и становимся счастливы как дети, когда
оказываемся с ним в одной компании.

|