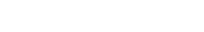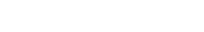|
Блики и Пирамиды
Solaris by Тарковский
Зеркало для всех
- и другое
АНОНС:
Неузнанный Сталкер
Ностальгия земная и небесная
ЖертвоприношениЯ
SiteMap
|
Начиная с "Рублева"
и по сей день, мы имеем то, что можно назвать "загадкой" или "проблемой"
(кому, что больше нравится) Тарковского. Изведены пуды и пуды бумаги
в попытках найти общий знаменатель для сделанного им, некую формулу,
вроде пресловутого "зеркала революции", ключ, пользуясь которым, мы
могли бы разложить по регистрам и полочкам темы его творчества, а заодно
найти и полагающееся ему самому место в русской и мировой культуре.
Это позволило бы, заодно, и самим определиться в нашем общем отношении
к нему. Вопрос о том, возможно ли общее отношение к Тарковскому, я пока
оставляю в стороне. Но если перечитать все сколько-нибудь существенное
из написанного о нем (к слову, не так уж много; здесь тоже загадка –
масштаб восторгов, титулов и эпитетов плохо согласуется с живостью и
насущностью интереса к самой этой фигуре, долженствующих, казалось бы,
найти соответствующее выражение в количестве публикаций, которых как
раз кот наплакал) создается ощущение, что предмет исследования не дается
постигающему усилию исследователей, что Тарковский не только не понят,
но даже, пожалуй, еще толком и не увиден. И сейчас, через двадцать лет
после выхода его последнего фильма, и больше чем через сорок, считая
от первого, Тарковский остается все тем же маргиналом, каким был и при
жизни. "Непризнанный гений" словосочетание в наши дни неловкое: гениев
мы "признаем", и охотно, но вот употребляем (прошу прощения за низкий
слог, но другого слова найти не могу) их подчас очень странно.
Предлагаемые здесь тексты поначалу возникали как своебразная стенограмма
моего несогласия с таким положением вещей, как попытка нащупать основные
пункты этого несогласия. Постепенно, за годы, накопился изрядный ворох
записей, которые, по мере приведения их в читабельный вид, я и буду
выкладывать здесь. Тем, кого они заинтересуют, я рекомендую время от
времени наведываться на эту страничку, так как она будет постоянно обновляться
- и содержательно и структурно.

предТАРКОВСКИЙ
Триумф на западе - и культ у одних в сочетании с неприязнью
у других на родине. В этой картинке есть что-то очень характерное, типическое
(как говорили у нас в позапрошлом веке). "Несть пророка в своем
отечестве" вспоминают в таких случаях - и библейское присловье
оказывается отмазкой: успокаиваясь на формуле, отменяем необходимость
сделать шаг к пониманию того, что подобные ситуации не на пустом месте
возникают. Есть и тут, в приверженности к расфасованным в цитаты словесам,
типическое - российская наша умственная лень. А ведь такой партийный
- на не желающие сходиться части, раскол, воспроизводящийся из века
в век, свидетельство того, что чаемого нами общества - механизма согласования
интересов, как не было так и нет. Возражение, что, мол, дела гражданские
тут непричем, что эстетические приверженности и несходимости вне этих
материй, при сколько-нибудь внимательном взгляде на предмет разногласия
не проходят: очень мало эстетики - и очень много партийности, т.е. идеологии,
т.е., опять же, говоря иными словами, в превалировании идеи принципа
над принципами идей.
В казусе Тарковского в новых декорациях разыгралась старая (и - нудная)
русская пьеса - художник и власть, талант и общество; даром, что мизансцены
очень уж изощренные. Изощренность же, достигающая изумительной степени,
которую по чести следует назвать невнятицей в духе дома Облонских, возникла
от мифа, перелицевавшего в модном стиле все наши представления не только
об искусстве, а на круг - мифа элитарности. Этот всеобщий, европейский,
даже глобальный миф, имеющий в развитом - гражданском - обществе вполне
реальные предпосылки, будучи импортированным к нам, пришелся очень кстати:
создал части общества, позиционирующей себя в прямо противоположном
по смыслу мифе о русской интеллигенции, алиби социальной невменямости
- и привел мозги в безнадежно хаотическое состояние.
Заложником и, в конечном итоге, жертвой этого хаоса стал Тарковский;
а отчасти, как это обычно и бывает с неслучайными заложниками и архетипическими
жертвами - и воплощением его. Как некогда в любимом им классике другой
классик увидел "зеркало революции", и мы можем узреть в его
творчестве все составляющие хаоса сознания нынешнего ("постоттепельного"
- шестидесятничество как парадигма советской интеллигентности сохраняется
и работает по сей день) русского интеллигента; да простится мне гнилой
каламбур - зеркало поллюций. За что и удостоен любви и культа. Однако
его фильмы свидетельствуют - и куда с большей силой, еще и о том, что
он сумел не раствориться в хаосе, не дать себе поблажки поглощения всеобщей
сумятицей, сподобился создать собственное, не мифическое, алиби художника
- творца вне пределов мифа. И заплатил за это усилие сполна - своей
жизнью.
Внятный разговор о Тарковском невозможен до тех пор, пока мы остаемся
внутри этого хаоса.
Решившийся на такой разговор должен повторить усилие художника по преодолению
хаоса. Не воспроизвести - это невозможно - но, отбросив приверженность
к ветхим мифам и позитурам, набело переписать текст понимания того,
что составляет суть творчества как усилия по преодолению хаоса.
Прежде всего это означает создать новый контекст.
БЛИКИ И ПИРАМИДЫ
Я пытаюсь представить
себе человека во всем подобного мне, но который, в отличие от меня,
имеет очень смутное представление об Андрее Тарковском: не видел ни
одного фильма, не прочитал ни единой строчки из написанного о нем и
даже ни разу не слышал каких-либо мнений о его творчестве; слышал звон...
Я представляю, как этот человек, небескорыстно побуждаемый мной, начинает
открывать новую для него страну, руководствуясь простейшим из путеводителей
- хронологией, просматривая фильмы в порядке их создания, от первого
к последнему. Я жду, что он скажет, и потому сам молчу. Он чует в моем
молчании подвох и, не желая дать провести себя слишком легко, также
не спешит с выводами и оценками. Но я вижу как, несмотря на все усилия
сохранить мину беспристрастного исследователя, с каждым новым шагом
растет его захваченность этой лучшей из интриг, этим проникновением-посвящением
в тайну тайн - творчество настоящего художника. Наконец, после просмотра
"Ностальгии", он не выдерживает..
- Я понял, - говорит он, - вот этот безумный Доменико
и этот несчастный Горчаков, которого сподобило слишком сблизиться с
безумцем и заразиться толикой его мании, они оба вместе и есть ваш Тарковский.
Творчество оплачивается жизнью, сама попытка обрести в нем личное спасение
- и тем спасти мир, погрязший в праздности, сытости и фиглярстве, -
смертельна. Но художнику больше ничего не осталось, кроме последнего
упования на то, что хотя бы зрелище его самопожертвования сможет уязвить
оцепеневшее сердце мира. Здесь есть свое величие, которого, впрочем,
наше время не ценит; мы бережем себе в утешение и потеху многие доставшиеся
нам в наследство мифы, например, миф Гения со всеми его причиндалами,
- но только не этот. Тарковский это понимал. Поэтому так жутко сбоит
его "Ода к Радости" в финале. Трагедия выродилась в хеппенинг, в котором
согласны участвовать только придурки и паяцы. В сущности его можно было
бы считать последним романтиком, если бы не эта поправочка - слитность,
сдвоенность Доменико и Горчакова: да, это капля, а не "двойной орешек
под единой скорлупой"; иронии, этому последнему убежищу, места не осталось...
Но после "Offret" я слышу нечто иное.
- Слушай, говорит он, - а ты не напутал, может этот фильм
предпоследний, а "Ностальгия" как раз последний? Да?! Говоришь, он его
монтировал чуть ли не на смертном одре? Хм... Что-то тут не лепится...
Не понимаю. Там он призывал строить пирамиды, - что естественно для
человека, которому дышит в затылок вечность, - а тут какая-то комедия
и ликующее море в конце. Я понимаю еще, если бы он, скажем, сделал это
после того, как вылечился от смертельной болезни. Да... "В начале было
слово". А в конце - блики на воде?...
Он замолкает в недоумении.
Молчу и я.
- Блики и пирамиды, пирамиды и блики, - бормочет он и
трет лоб.
И после паузы:
- Знаешь, надо разобраться. Давай все сначала!

Кажется Пушкин первый предложил
разделение художников на универсальных - высказывающихся о мире в целом,
и на тех, кто содержанием своего творчества сделал переживание мира,
т.е. на "объективных" и "субъективных". В его времена
такой подход был продуктивным. Но по мере приближения к нашему он теряется,
и возможно Тарковский первый, к кому он неприменим вовсе; в его высказывании
мы не сможем провести такого разделения ни на каком уровне. Более того
- всякая попытка разъять его творчество на объективную и субъективную
составляющие неизбежно приведет к путанице именно в силу того, что Тарковский
изъял само это разделение из состава своего послания.
Еще более того - он сам есть такое изъятие.
В силу этого, главным образом, и возникает тот сговор непонимания, который
невольно усматривается во всем, что творится вокруг его имени - и во
имя его. Базовый культурный навык высокодисциплинированного европейского
восприятия - навык субъекта par exellence. Тарковский как феномен мимо
этого навыка, не ему адресован - вот в чем проблема. Будучи не в силах
дотянуться до такого объекта, субъект выстраивает привычные "субъективные"
конструкции-сети, тщась уловить в них тень от пролетевшей над ним неведомой
птицы.
Вместо того, чтобы, для начала, поднять голову и попробовать рассмотреть
самое птицу и проследить траекторию ее полета. Такой жест означает прежде
всего отказ от всяких концептуальных априори; то есть не от кантовских,
а от методологических, наработанных посткантовскими "критиками"
весьма нечистого разума.
В самом начале пути Тарковского лежит случай, сотворивший
ему статус европейского художника-интеллигента, давший импульс и направление
всем последующим интеллектуальным заходам на него, все более - и тем
более - извилистых, чем дальше продвигался сам Тарковский. Я имею в
виду статью Ж.-П.Сартра об "Ивановом детстве". Независимо
от попадания или непопадания французского философа, напомню - единоличного
лидера европейских интеллектуалов на тот момент - в суть фильма, сам
факт его слова означал зачисление Тарковского в "свои", которому
никто противиться тогда даже захотеть не мог. Не мог - и не хотел -
и сам Тарковский. Да и с чего бы - любой по эту сторону отделявшего
нас от всего мира кордона, который мы в те годы едва начали преодолевать,
был бы счастлив удостоиться внимания всеевропейского гуру.
Сартр соорудил пьедестал monumentum'y "ТАРКОВСКИЙ".
И художник удерживался - честно и заслуженно - на этом пьедестале, подтверждая
каждым новым фильмом, и всеми сопровождавшими их появление коллизиями,
репутацию "своего". Героем "Рублева", "Соляриса"
и "Зеркала" был mutatis mutandi этот самый "свой"
- европеец-интеллектуал, со всеми его предикатами и атрибутами. Автор
неприкровенно, почти декларативно (тоже вполне "своя" манера)
совпадал со своим героем - и по контуру, и по консистенции.
Так продолжалось до "Сталкера". В этом фильме герой размножился
в троицу, которая, отчасти ввиду самой этой метаморфозы, приобрела черты
сомнительной комплиментарности совсем не сакрального свойства. Произошел
сдвиг центра тяжести, и, как следствие, возник эксцентриситет в рецепции,
точнее - усилился (всякая рецепция есть сдвиг; вопрос в градиенте -
насколько это уклонение позволяет определять его как все еще рецепцию,
а не как конфликт толкований уже). Кроме того здесь обозначилось такое
размытие коллизий и фона действия, которое, в отличие от предшествующих
фильмов, требовало какого-то иного, непривычного, усилия по удержанию
их в пределах доступного. Речь шла уже не о приемах и акцентах - приметах
почерка, шокирующих профанов и балующих падких на экстравагантности
гурманов; как раз на таковые "Сталкер" был не слишком щедр,
скорее, на придирчивый взгляд, грешил повторами и автоцитированием.
Но весь склад фильма, его интонация, содержали нечто сопротивляющееся
уже сложившемуся о Тарковском мнению как о безусловно "своем".
"Ностальгия" и "Жертвоприношение" смутили - и стали
соблазном, в еще большей степени. Что означал жест Горчакова-Доменико
и, тем более, Александра (Идиота и Ричарда III в одном лице), таких
вроде бы по-прежнему "своих" - но уж как-то совсем невменямо
"своих"? Жест и его исполнитель не хотели сливаться в одно,
и никакое сверуxсилие изощренного ума не могло справиться с этой проблемой,
которая сама оказывалась вне пределов собственно привычной "проблематики"
- того, что подразумевалось под ключевым слово "экзистенция",
отмыкавшим прежде любые замки и рубившим любые узлы. Если речь шла о
"жертве", как намекал автор, то в чем, собственно, состояла
жертва? И, соответственно, мистика и мистерия жертвоприношения?
Все эти вопросы никак не хотели сами разрешаться в ответы - ни в процессе
просмотра фильмов, ни в последующем осмыслении.
А тут как раз умер сам автор.
И получилось так, будто история его жизни - вместе с загадками его фильмов,
сама собой замкнулась в миф, содержащий ответ на все вопросы.
В миф Гения - такой родной и понятный.
Все, что мы имеем на сегодняшний день в виде всяческих толкований творчества
Тарковского, есть экспликация этого мифа - не более того.
И тут я хочу напомнить, что всякий миф в своей интенции (вне которой
он перестает быть таковым, попросту испаряется) служит не объяснению
и пониманию (того, что видимо составляет его корпус) а примирению, т.е
выстриванию такого отношения, которое включает объект и субъект в непротиворечивую
связь.
Выстраивая миф Тарковского, а затем толкуя его на разные лады, мы по
сути уходим от него, от содержания его "мессиджа".
Послания, исключающего субъект...
SOLARIS by Тарковский ИЛИ НЕПОЗНАНИЕ
(Кроме того) сложность может
быть вызвана тем, что читателю заранее рассказали, или он сам по себе
решил, что произведение окажется сложным. Когда обыкновенного читателя
предупреждают о непонятности стихотворения, его охватывает ужас и состояние
это отнюдь не благоприятно для восприятия поэзии. Вместо того, чтобы
настроить себя на восприятие поэзии, он сбивает с толку свои чувства
желанием казаться умнее, казаться человеком, с которым трудно сделать
что-то (что именно - он сам не знает), или же стремлением не дать себя
провести. Есть такое понятие как страх сцены, но то, что испытывают
подобные читатели, - это страх партера или галерки. Более опытный читатель,
достигший совершенства в этих вопросах, не заботится о понимании;
по крайней мере, поначалу... И, наконец, есть сложность, которая возникает
тогда, когда автор опускает что-то из того, к чему привык читатель;
так что последний рыскает в поисках того, что отсутствует, и немало
озадаченный происходящим, ломает голову над каким-то "смыслом",
которого там нет и быть не должно.
Т.С.Элиот. Назначение поэзии и назначение
критики.
В нашем случае речь, разумеется,
будет идти не о читателе, а о зрителе; в остальном же соображения английского
поэта помогут разобраться с вопросом о “сложности” Тарковского. “Солярис”
может служить идеальной моделью того, как и почему он не был понят.
Третий фильм стал первым “непонятным”, хотя вроде бы понятный “Андрей
Рублев” оказался, тем не менее, как не сразу выяснилось, также не вполне
понят. С известной долей упрощения можно сказать, что искушенного зрителя
*1(так
же, впрочем, как и не искушенного) сбили с толка стереотипы
восприятия жанра. Сам Лем обмолвился однажды, что среди его книг есть
такая, которая получилась не совсем понятной для него самого, а именно
“Solaris”.*2
Я считаю, что фильм конгениален роману, - но облегчил ли он задачу понимания,
и о том же ли самом, что и в книге идет в нем речь?
Многих, прежде всего самого Станислава Лема, смущало введение
“пролога” на Земле. В остальном отклонений от текста в фильме немного,
и они непринципиальны.*3
Немало размышлений и описаний романа почти буквально воспроизведено
на экране, разумеется, настолько, насколько это было возможно в рамках
поэтики Тарковского. Фильм верен духу книги, но произошло это в силу
совпадения пафоса и этоса авторов, а вовсе не из пиетета идущего следом
по отношению к первоисточнику.
Но вернемся к “пониманию”.
Как правило, ни публика, ни критики не задаются вопросом о том,
как относятся их суждения о тех или иных произведениях - книгах, спектаклях,
фильмах - к самим книгам, спектаклям, фильмам. Здесь я имею в виду не
“соответствие”, а именно отношение, т.е. нечто определяющее
обоюдное существование в этом мире; проще говоря, как влияет суждение
на первоначальный образ? Зато часто возникает некая параболическая подмена
этого вопроса другим - зачем нужна критика? Зритель, выходящий из театра,
читатель, закрывающий только что прочитанную книгу, не спешат тотчас
обратиться к профессионалу с тем, чтобы от него узнать, какое впечатление
они получили - оно уже есть. Но поскольку существует самый
институт критики, то естественно возникает вопрос о ее роли: должна
ли она растолковывать как возникает то или иное впечатление, - или она
втайне претендует на, как ей самой представляется, более значительные
роли? Называя критику “институтом”, я предлагаю понимать здесь это слово
широко - как прочно укоренившийся социальный навык, а не только как
конкретные формы его осуществления; но так же и узко классически, не
путая с герменевтикой.
Детище века Просвещения - институт критики породил пресловутую
"культурную элиту", ту часть публики, которой ведомо что и как следует
говорить об искусстве.Что случается с произведением уже прошедшим сквозь
мозги могущих о нем что-либо сказать? Хотим мы того или нет, книга,
спектакль, фильм, продолжая свою жизнь в суждении, низводятся до положения
повода для этого самого суждения. Когда Тарковский взялся за
экранизацию романа С.Лема, роман уже успел превратиться в такой повод,
и фильм воспринимался в соотнесении с ним. Разумеется, это беда всех
экранизаций, - вернее, экранизаций произведений популярных, - но здесь
был случай особый. Станислав Лем к тому времени успел превратиться у
нас в то, что позднее стало называться "культовой фигурой", равно как
культовый характер носило и само поголовное увлечение фантастикой, всякой,
от Э.Т.А. Гофмана до бр. Стругацких. В таких случаях ревность публики
обеспечена - всякий, осмелившийся встрять между публикой и ее идолами,
рискует тем самым угодить в калашный ряд, но культовой фигурой был уже
и сам "встрявший"' - Тарковский. Поводы приходили в столкновение
с поводами же. Я акцентирую этот момент, который, на первый взгляд
может представляться незначительным, потому что считаю его как раз очень
значительным - не вообще,*4
а именно в той ситуации, в которой только-только начинал разворачиваться
со своей темой Тарковский. Публика, уже привыкшая после “Иванова
детства” и “Андрея Рублева” считать его своим (позже этому суждено было
произойти еще раз - в случае с “Зеркалом”; подобная “приватизация” обычно
приводит к приручению автора, и он в дальнейшем угождает установившемуся
с его же легкой руки вкусу), была не готова к встрече с чем-то новым
там, где уже все вроде бы освоено. Обратись Тарковский к какому-то другому
материалу, к тому, что еще не стало поводом, глядишь и заметили бы то
новое, что привнес именно он, в данном случае новую тему, а
так новое было воспринято как всего лишь драматургическая отсебятина,
по тем или иным соображениям вкуса либо отвергаемая, либо оправдываемая.
Вслед за Лемом, не совсем понявшим, что он написал, не совсем поняла
роман и публика, и уж вовсе непонятым оказался фильм.*5
Вообще это обычная ситуация, никакое серьезное произведение не исчерпывается
в понимании “здесь и сейчас”, в момент появления. “Solaris” Лема оказался
достаточно хитроумно устроен, чтобы быть прочитанным на разные лады.
В зависимости от склонности читателя он мог оказаться психологическим
романом с легким налетом “дамского” мелодраматизма, либо густо нашпигованной
специфическими терминами космической фантасмагорией в духе не то Айзека
Азимова не то Артура Кларка. Я знал людей, как правило это были дамы,
которые спокойно пропускали все, что относилось собственно к океану
Solaris, - и это не мешало им восторгаться книгой. Более внимательное
прочтение позволяло заметить, что обе составляющие романа – психологическая
и научно-фантастическая не просто дополняют друг друга, но образуют
острый контрапункт.
В фильме же всё собственно фантастическое согласно воле режиссера
оказалось не более, чем антуражем. Мистик Тарковский лучше, чем рационалист
Лем понял, - или, точнее, учуял - что гипермозг Solaris скорее
модель - очень впечатляющая, но все же - того совокупного противостояния
человеку сил, которые издавна именуются иррациональными, нежели то,
чем старался представить его сам автор: космическим явлением природы,
аккумулировавшим всю ее сложность, которую человеку предстоит постичь
(моделью Универсума, если угодно). От просмотра фильма остается ощущение,
что океан Solaris не столько источник иррационального (как у Лема),
сколько усилитель и преобразователь, модулятор неких от века существующих
энергий. Да, как и в романе, он насылает на людей не монстров а lа “Star
Wars”, но их собственное бессознательное, и так же сталкивает человека
с той его половиной, от которой человек обычно старается избавиться.
Но, будучи изъята из контекста романа в результате аннулирования научно-фантастической
составляющей,*6
эта юнгианская коллизия стала самодовлеющей. И на первый план выдвинулась
не гносеологическая проблема – познание, возможность его, и
цена, которой оно должно быть оплачено, - а экзистенциально-онтологическая
- обретение человеком цельности. “Непонимание” Лема, как мне
представляется, касалось именно различения статуса проблемы: он полагал,
что имеет дело с проблемой познания и Контакта (“нас ждет встреча с
Неизвестным - готовы ли мы к ней?” - приблизительно так он формулировал
тему), но собственная интенция образа им овладевшего - мыслящей субстанции
океана Solaris, скорее образа Непознаваемого, чем образа Неизвестного
- нечувствительно сдвигала решение творческой задачи в область онтологии.
Лем последовал этой новой и неожиданной для него самого интенции так,
как это сплошь и рядом случается у хороших писателей - безотчетно, следуя
логике судьбы персонажей (вспомним пушкинскую Татьяну Ларину с ее "неожиданным"
замужеством). В результате " книга получилась не совсем такой, какой
я ее задумывал", как признается много позже он. Этот "сдвиг" оказался
запечатлен и в сюжете и в самой структуре романа. Крис Кельвин появляется
на станции с целью решить вопрос о гносеологической рентабельности дальнейших
исследований, но попадает в ситуацию, в которой вынужден решать совсем
другие проблемы, В ситуации иррелевантности познания оказываются все
герои романа, а заодно и сам автор; это и есть подлинная*7
тема романа "Солярис". На нее-то и отозвался чуткий к ней Тарковский.
Новый “Солярис”*8
плохо поддавался интерпретациям. Введение пролога на Земле, обозначившего
некий конфликт Криса Кельвина с Бертоном и отцом, и промелькнувшее пару
раз в их диалогах слово "нравственность", соблазняли на трактовку в
терминах этики и морали. Такой подход привычен и удобен сам по себе,
но всегда следует помнить о том, что в разговоре об искусстве он может
быть, в лучшем случае, лишь отправной точкой. Это хорошо знают художники,
но все время забывают критики. И у Лема и у Тарковского "морально-нравственная
проблематика" играет ту же роль, что и в жизни, где она суть попытка
обуздать, - а иногда и попросту подменить - психологию, к которой прибегают
все более или менее культурные люди (в данном случае персонажи) чтобы
не сводить разговор к обмену репликами типа "ты меня уважаешь?" Критика
часто склонна принимать все это за чистую монету, К тому же у нас долгое
время только этот - вполне фельетонный - уровень дозволялся и насаждался,
так что вошел в плоть и кровь обывателя и способствовал чрезвычайному
размножению известной породы "честных" людей. (Не брезгающую этим уровнем
критику следовало бы тоже назвать "честной", но как тогда называть просто
хорошую критику?) Возможно, что Тарковский с Горенштейном принимаясь
за сценарий и сами так же понимали свою задачу, как и то, что поначалу
и им проблема “Solaris” могла казаться суть гносеологической, но, как
прежде Лем, они шли туда, куда их вел образ непознаваемого,
а не теории о том, в каких отношениях состоят наука и нравственность.
Во всей этой истории удивляет, что мимо сознания всех, включая авторов,
как-то проскочило, что речь идет именно о непознаваемом и познание
тут непричем. Я думаю, это произошло в результате своего рода позитивистского
ментального рефлекса в отношении самого слова “познание”, утвердившегося
в умах тех, кто воспитывался в нерелигиозной обстановке. Согласно этой
привычке "познание" мыслилось не как простой прирост знания, но как
единственный верный путь к тайнам мироздания. Непознаваемое, согласно
такому представлению, оказывалось логическим нонсенсом и выносилось
за скобки претендующего на строгость и научность мышления. Конечно,
повинен, - если здесь вообще уместно говорить о чьей-либо вине, - в
этом сбое Лем: он задал направление, дальнейшая путаница оказалась следствием
инерции. Сейчас, когда уже есть “Солярис” Тарковского и достаточная
временная дистанция для обозрения всего интеллектуального пейзажа (контекста,
интерьера, - кому что больше нравится), это представляется очевидным,
но тогда еще добрая половина лучшей половины человечества (читай - интеллектуалы),
в том числе и в нашей доле, была позитивистски ориентирована, и чуждый,
как показал его “Solaris”, такому умонастроению Тарковский,
что называется, “не вписался”. Думаю, что если бы он уже не был всемирно
известен, - скажем, если бы “Солярис” оказался его дебютом, - фильм
попросту не заметили бы. Но так как Тарковский был автором “Андрея Рублева”,
и новый фильм видимо не проигрывал предыдущему в том, что принято называть
“художественным уровнем”, а в чем-то, например в формальной изощренности,
даже, пожалуй, и превосходил, все непонятное кануло в негласном заговоре
молчания под тем предлогом, наверное, что гению позволительно быть экстравагантным
и непонятным.
Собственные высказывания Тарковского о фильме также не способствовали
прояснению того, что можно назвать “проблемой Solaris”. Не то чтобы
они были лукавы или невразумительны - напротив, ему, как мало кому из
собратьев по ремеслу, было в высшей степени свойственно изъясняться
прямо и ясно, но и здесь отсутствовало ключевое слово "непознаваемое",
которое сразу помогло бы расставить все по своим местам.
Непознаваемое вступает в свои права там, где бессильно познание,
а это и есть ситуация, имя которой отныне “Solaris”. Неизвестное всегда
чревато непознаваемым, но особенно там, где к его божественно-девственной
плоти вдруг - всегда вдруг! - примешивается хоть чуть-чуть только грешной
человеческой. Что и произошло, но отнюдь не в гомеопатической дозе,
на станции “Solaris”. Познание в чистом виде, т.е. прирост, умножение
знания, здесь негодно и бессильно прежде всего потому, что "человеческое"
всегда оказывается "слишком человеческим", превращая химию в алхимию.
Какая, в конце концов, разница из атомов или нейтрино слеплена любимая
женщина, если то и то равно прах и в прах обратится? Роман Лема хорош
и притягателен не фантастическими "наворотами" (хотя они и хороши),
не какими-то особыми эстетическими лакомствами для гурманов (хотя и
таковых там достаточно), и даже не способностью автора сплавить и то
и другое, с добавкой энциклопедической эрудиции (тоже немаловажным фактором
успеха в наше помешанное на словарях время), в единое, захватывающее
своей непредсказуемостью повествование (в конце концов, на то он и писатель),
но прежде всего тем, что указывает нам на самих себя как на тайну.
Тайна человека (еще точнее –Тайна как таковая, человек есть
по необходимости как бы главное вместилище ее) и есть "тема" Тарковского.
Судя по перипетиям со сценарием, на нее он и вышел, почти наощупь, в
романе Лема. "Отсебятина" с Землей и женой Криса Марией*9
поначалу грозила занять едва ли не такое же положение, как события на
станции, - что как раз и было вызвано подспудным стремлением усилить
“человеческое” начало, но по мере углубления в материал стало ясно,
что “человеческого, даже слишком человеческого”, точнее - пространства
для оного, хватает с избытком и на станции “Solaris”. В дальнейшем,
во всех фильмах, на разных уровнях, будет разрабатываться именно - и
только (!) - тема о человеке, его тайне.
Здесь, в "Солярисе" она предстала в невиданном и неслыханном
у нас прежде виде - как тема идентичности.*10
На западе тогда это слово только-только вошло в интеллектуальный словарь
и еще не успело стать модным, у нас же и вовсе о подобном не слыхивали.
(Идентичности как проблемы в СССР быть не могло). Хари - вторая, “нежелательная”,
половина главного героя - воплощает то, что у философов принято называть
"антропологической проблемой", а у психологов "кризисом идентичности";*11
происходит, как мы видим, новый “сдвиг”, - теперь уже в фильме, - и
закручивает в знакомых по роману коллизиях новые омуты смыслов.
Но всех этих “отсебятин”, отклонений и сдвигов самих по себе
было бы недостаточно, чтобы ввести публику в недоумение - не слишком
отчетливое, скажем, когда приподымается, и то слегка, одна бровь, а
не обе, и оттого лишенное подобным состояниям обычно свойственного побуждения
его разрешить. Также и явного, уже не только в сравнении с книгой, но
вообще с привычным в тогдашнем кино снижения того, что можно назвать
“эмоциональным тонусом”, пробарматывания, того, что просилось в крик,
и, наоборот – акцентирования, на грани шока, невербальных частностей
(многих, помнится, возмущал дважды повторенный сверхкрупный план уха),
непонятно какому уровню восприятия адресованного, - и этого было еще
недостаточно (чего не простишь патентованному гению). Стоит явиться
усилию понимания, и подобные препятствия уходят на периферию, превращаются
в стаффаж более побуждающий к возобновлению этого усилия, нежели гасящий
его; они дразнят и манят как загадка, которую надо решить. Но не было
самого усилия. Что-то неуловимо препятствовало возникновению его.
Что?
Майя Туровская считала, что главным героем фильма, его протагонистом,
в отличие от романа, где таковым был Крис Кельвин, стала Хари. Это ошибка,
но не такая, о которых говорят, имея в виду их безосновательность, немотивированность,
что они возникли на пустом месте. Эта ошибка возникла на таком “пустом
месте”, которое как раз и есть ее основание и повод: Майя Туровская
просто не увидела в экранном Крисе Кельвине героя. Персонаж
представленный под этим именем и впрямь выглядит существующим в страдательном
залоге; на протагониста в традиционном привычном смысле, когда герой
своими поступками движет сюжет, он не тянет. Эта его пассивность,
страдательность была отмечена рецензентами. Припомнили в этой связи
и Рублева, который де тоже был всего лишь свидетелем и страдальцем,
все как-то очень наглядно мыкался, а вот убийство, - деяние куда как
сильное, - совсем напротив, проделывал как-то наспех и невнятно, - и
оно не было ему зачтено. В дальнейшем, после “Зеркала” на эту общую
всем героям Тарковского особенность перестали обращать внимание.
Привыкли.
Но не простили.
Даже самый “элитарный”, самый высоколобый зритель приобщается
к любому, - сколь угодно изощренному, либо лубочному, - нарративу посредством
того же нехитрого механизма души, который сотворял “народных” героев
всех времен и народов, от Чапаева до Рембо: зритель отождествляет себя
с героем. Это значит, что герой должен быть комплиментарен, дополнителен
к зрителю, позволяя зрителю слиться с ним, узнать себя в том, кто, освобожденный
волею автора от пут и обуз тупого обыденного бытия, оказывается способен
на Такое…
И что же “Такое” предлагает своим героям, - а значит и зрителю,
- в качестве радикального свершения Тарковский здесь, в “Солярисе”?
“Действует” - в прямом смысле - только Хари, что и побудило не склонную
обычно к столь грубым промахам Туровскую вывести ее в “главные”,*12
все прочие только слегка суетятся, немного нервничают и пререкаются
друг с другом при помощи обрубков цитат и витиеватых реминисценций.
Все это неявно отдавало если не карикатурой, то шаржем – и не слишком
дружеским – на… своих. Да, на тех, кто сотворил Тарковскому
славу, - на интеллигенцию и интеллигентов. Повторяю – неявно. Вообще,
- и в полную силу эта манера проявилась впервые здесь, в “Солярисе”,
что также способствовало непониманию и, как следствие, пока еще только
наметившемуся, но с каждым новым фильмом*13
все более усугубляющемуся расхождению художника с его референтной группой,
- главное и существенное подается Тарковским по большей части как обертон
или (продолжу кстати подвернувшуюся музыкальную метафору) как синкопа
– смещение акцента с сильной доли на слабую. И, напротив, выговариваемое
в полный голос, преподносимое в красиво аранжированных натюрмортах крупных
планов, в заставляющих зрителя вздрогнуть внезапных срывающихся фортиссимо,
- подчас оказывается тем, что сам режиссер называл “ложным символом”,
всего лишь (“всего лишь” - относительно наших натужных попыток вычитать
из них смысл, которого там изначально не было) тонким средством
перенастройки, переключения и мобилизации наших интенций.*14
Тарковский выстраивал систему апелляций не к сознанию зрителя,
но к его подсознанию, и начало этому процессу, от фильма к
фильму все более разветвляющемуся, включающему в себя все новые и новые
уровни, было положено именно здесь, в “Солярисе”.
И фокусом, точкой приложения, и вместе рычагом этой системы стал
Крис Кельвин, - а вовсе не Хари (и даже не океан Solaris).*15
Есть такое понятие alter ego – другое Я. Присутствие “другого
Я” во всех фильмах Тарковского представляется несомненным; однако, подобно
иным привычным меркам и ключам, и это лекало требует подгонки и настройки,
- но это отдельно. Пока, закрепляя должность “другого Я” за Крисом Кельвином,
я ограничусь этой оговоркой. Не любитель научной фантастики
Андрей Тарковский остановил свой выбор на очень научно-фантастической
книге, кроме всего прочего, еще и потому, что увидел в ее главном герое
это самое “другое Я”. И воплотил его на экране точно и аккуратно; другие
персонажи, не исключая Хари, подверглись куда более решительной редукции.
Доказывать адекватность переноса путем вычисления пунктов совпадения
занятие бесплодное: такому списку всегда можно противопоставить симметричный
список не совпадений. Подкреплением моего тезиса будет сопоставление
иного рода. Предпоследняя глава романа, действие которой происходит
уже после исчезновения “гостей” и сводится к некоему подведению итогов,
содержит весьма любопытный разговор Криса Кельвина со Снаутом. В нем
первый пытается развить и обосновать, - неуверенно и нерешительно,
- теорию (sic!) “слабого Бога”: “Это Бог ограниченный
в своем всеведении, всесилии, он ошибается в предсказаниях будущего
своих начинаний, ход которых зависит от обстоятельств и может устрашать.
Это Бог… калека, который всегда жаждет большего, чем может,
и не сразу понимает это. Он создал бесконечность, которая должна была
показать его всемогущество, а стала причиной его полного поражения”.
Я выделил курсивом два ключевых для понимания всего сделанного
Тарковским слова, но и здесь они тоже играют в полную силу. Сопоставим
эту цитату с коротенькой репликой из “бредового” монолога больного
Криса Кельвина фильма “Солярис”, - “…стыд – вот чувство, которое спасет
мир”, - и станет ясно, что оба Криса Кельвина пребывают в одном
и том же модусе сознания, который можно обозначить еще одним ключевым
словом “смирение”.*16
И здесь начинает проясняться тот главный пункт недоумения и непонимания
- и неприятия, - хотя и не тотального и не безоговорочного, но перманентно
подпитываемого, и сопровождаемого разнообразными, подчас безотчетными,
а подчас и вполне рассчитанными фигурами умолчания, экивоками и расшаркиваниями,
словом, всей той изощренной и наблюдаемой по сей день, когда уже воздвигаются
памятники и разыгрываются юбилеи, дипломатией нечистой совести, - который,
стал фатумом Тарковского. Вместо того, что я обозначил словами
“радикальное свершение”, которого в “Солярисе” публика не нашла, потому
как его там и не было,*17и
самое несколько обидное отсутствие которого, вместе с прочими странностями
этого фильма, тоже, скорее всего, было бы прощено, - именно вместо,
т.е. на том же самом “святом (пусть бы уж оно осталось пустым!) месте”
предлагалось – смирение, т.е. признание поражения. Финал
фильма, цитирующий рембрандтовского “Блудного сына” и рифмующийся с
симметричной мизансценой задолго его предвещающей, когда Крис Кельвин,
- подчеркиваю: главный герой, - опускается на колени перед (очеловеченным
его любовью призраком) Хари, провоцируя этим почти на истерику Сарториса,
и означал, - опять подчеркиваю: не символизировал, а именно означал,
без возможности разночтений и толкований, однозначно, - именно
смирение.
Категоричность такого вердикта требует уточнений. “Блудный сын”
очень богатая метафора, и символическое безущербно изъято из
нее быть не может: притча перестанет быть притчей, метафора перестанет
быть метафорой. Но здесь мы имеем дело с визуализацией метафоры (причем
двойной: сначала художником, затем, - в цитате, как раз и обращающей
символ в знак - режиссером), и в этом случае первичным уровнем восприятия
оказывается не символический, а знаковый. Символическое прочтение
раскрывается как возвращение к истоку бытия (который есть Бог), - и
оно было отрефлектировано критикой сразу и благодарно (с понятным умолчанием
по поводу Бога и заменой его подходящими субститутами: Земля, отчий
дом и пр.). Знак - смирение – проигнорирован.
Фильмы Тарковского можно – и нужно, иначе они вряд ли могут быть
поняты, - рассматривать как послания. Но не проповеди. Религиозное в
них требует особого рассмотрения. Советские urbi et orbi были
устроены на вполне церковный лад, и тот, мягко говоря, более чем оправданный
скепсис, с которым привыкла их воспринимать лишенная возможности свободного
религиозного самоопределения и уже только поэтому плохо ориентировавшаяся
в собственных отношениях со всем, что не от мира сего интеллигенция,
естественно распространялся на все, что хоть сколько - нибудь отдавало
прямой речью. В таких случаях сам собой запускался классический
процесс вытеснения и сублимации. Знаковое, как род прямой речи,
вытеснялось в первую очередь там, где оказывалось, хотя бы в малой степени,
спроецированным на официозную советскую риторику. “Солярис” обманул
все ожидания до того очень расположенной к его автору публики в наибольшей
степени именно своим финалом: смирение, лишенное религиозной
окраски, почти не принимавшейся в расчет в данном случае, могло означать
в глазах советского просвещенного зрителя только одно – конформизм*18
Это было, по меньшей мере, не интересно. На уровне коллективного
бессознательного сработала именно “меньшая мера”. По сей день в число
шедевров Тарковского “Солярис” - “по умолчанию” - не входит. Сам режиссер
несколько раз высказывался о фильме весьма сдержанно и в том духе, что
де надо было бы сделать иначе, поменьше фантастического антуража и т.д.
Выстраивание фильмов Тарковского по шкале “шедевральности” я
отложу пока до другой оказии. Мне представляется очевидным, что между
двумя первыми фильмами и пятью следующими существует типологическое
различие. Соблазнительно было бы объявить“Солярис” промежуточной ступенью,
переходным звеном, в котором художник отрабатывал свой “творческий метод”
и списать все связанные с ним недоумения и неясности на издержки поиска,
опять же “творческого”. Но известная фраза Пикассо “я не ищу – я нахожу”,
я убежден, должна быть распространена на творчество любого состоявшегося
художника, а заодно и на творчество вообще. Популярным клише “творческий
метод” я все-таки слегка попользуюсь, с той оговоркой лишь, что, как
мы все понимаем, в действительности никакого такого “метода” нет и быть
не может, что это род аббревиатуры, обозначающей процесс адекватному
описанию не поддающийся. То, что может быть названо “методом Тарковского”
родилось здесь, в третьем фильме, на станции Solaris. Сны. Возгонка
реальности в систему связей опосредуемых Бессознательным.
Здесь я должен оговориться, что под “бессознательным” предлагаю
понимать не психоаналитические компаунды в духе Фрейда либо других авторитетов,
отметившихся в составлении теорий данной неуловимой сущности, вообще
не сущность, а всего лишь некий массив невербального и,
подчас, в принципе невербализуемого опыта, служащего бесперебойным
поставщиком и фильтром, источником (наряду с “сырой” реальностью) и
коррелятом информации, с которой имеет дело сознание. Это основной генератор
образов и интенций. “Solaris” открыл шлюзы бессознательному не только
обитателей станции, но и автора фильма. Сновидец Тарковский оказался
перед открытой дверью,*19
сквозь которую его видения безнаказанно смогли шагнуть в явь – и смешаться
с нею. Две родственные стихии слились в Единое.
“Солярис” стал вторым рождением Андрея Тарковского. Здесь он
обрел не язык (любимое клише всяческих “ведов”, фальшивый камертон),
но дар свободной речи…
О чем сам и заявил, – в зачине следующего фильма.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВСЕХ - И ДРУГОЕ
Познай самого себя
Надпись на стене храма в Дельфах
Как странно - у героя фильма, называющегося "Зеркало",
нет лица!
Он недовоплощен, прозрачен, человек-невидимка; мы видим его прошлое,
его самого в прошлом, видим людей из альбома его памяти, наконец слышим
его голос... И нам этого оказывается достаточно. Настолько, что мы не
испытываем никакого неудобства, убытка, загадки.
И все-таки - что это за зеркало такое, в котором отражается все что
угодно, хоть само прошлое, или даже вовсе несуществующее, и даже невозможное
- но только не лицо того, кто в него глядится?
Он рядом - да. Но мы его не видим. Мы словно сдвинуты на угол отразившегося
луча-взгляда в ту невозможную точку окружности, из которой нельзя увидеть
ее центра. Хотя почему невозможную? Вот качнулась зеркальная дверь,
все сдвинулось, уплыло в сторону, и вместо себя мы видим кого-то стоящего
рядом, или чуть за спиной. Другого. Но, так или иначе, любое заглядывание
в зеркало явит нам лицо.
Зритель фильма "Зеркало" видит много лиц и ликов, но только
не свое и не главного героя - того, кто отважился на рассказ.
Вот безупречная метафора искусства: оно являет все и вся, кроме тех,
кто его сделал и зрит. Эти два субъекта фигуры косвенные, при том, что
их несомненная реальность удостоверяется порождающим жестом присутствия
произведения искусства; априори удостоверена жестом сотворившего это
произведение, и именно его. Эту метафору автор не придумал, она воплотилась
сама собой, в силу того закона искусства, согласно которому всякое его
порождение будет прежде всего его метафорой - автореферентом. Но именно
метафорой - размыканием круга референтности - оно оказывается в силу
его предназначения взгляду.
Взгляду другого.
Можно сказать, что в "Зеркале" Тарковский вывел формулу метафоры,
обнажил ее структуру и явил ее механику. Причем достиг этого очень простым
способом - убрал из кадра Героя, лик alter ego.
Вспомним - фильм задумывался как интервью с матерью, и ей назначено
было стать его героем. Но что-то сдвинулось в замысле, не устояло в
качании отзывов на соблазны случая - и, как бес в омут, повлекло за
собой вещи, назначая им негаданные приключения.
В фильме Антониони "Профессия: репортер" есть эпизод, в котором
герой пытается взять телеинтервью у африканского колдуна. "Ваши
вопросы скажут о вас больше, чем мои ответы обо мне" говорит тот,
а затем, с достойной его занятия проницательностью заподозрив вопрошающего
в нечестной игре, разворачивает камеру в сторону интервьюэра - "спросите
себя обо всем, о чем хотели расспросить меня".
Что-то в этом роде произошло с Тарковским: вопрошание, первоначально
обращенное к матери, обернулось вопрошанием себя.
“Человеку нужно зеркало” говорит
в "Солярисе" Снаут. Если окончательное название того, что до поры было
проектом “Белый, белый день” пришло не из этой фразы, то из того же,
что и она источника: насущной потребности познать себя.
“Белый, белый день” задумывался сразу по окончании съемок “Рублева”,
до “Соляриса”, когда роман Станислава Лема еще не был даже прочитан.
Тогда же была подана и заявка на Мосфильм. Это должен был быть рассказ
о матери Тарковского, по тем временам довольно экстравагантный и рискованный:
предполагалось снимать его скрытой камерой в виде интервью, которое,
по мере разворачивания действия, прерывалось бы вставными игровыми эпизодами
– воспоминаниями самого автора о его детстве, а также хроникой соответствующих
лет. Но мытарства “Андрея Рублева” и прочие житейские перипетии привели
к тому, что этот проект пришлось отложить на неопределенное время. Запустить
в производство как-то не логично и вдруг подвернувшийся под руку “Солярис”
оказалось проще. Случайная рокировка произвела любопытный эффект: “Солярис”
с момента зачатия нес в себе вирус “Зеркала”. Два очень далеких, - да
что далеких, прямо-таки противоположных и по теме и по фактуре замысла,
в какой-то неуловимый, и возможно самим автором неосознанный момент,
вступили во взаимодействие. В “Солярисе” есть хотя и изрядный по метражу,
но отнюдь не кульминационный в драматургическом плане эпизод, который
в широком контексте обретения свободы речи представляется ключевым.
Я имею в виду предшествующую финалу сцену “посещения” больного Криса
Кельвина его молодой, какой она осталась в его воспоминаниях,
матерью. Эта очень интимная сцена словно машиной времени (океаном Solaris)
перенесена и вставлена сюда из “Зеркала”. Сама интонация этого “свидания”
- оттуда, и здесь, в удушливой и разреженой атмосфере станции производит
впечатление странное и - неуместное как счастье.*1
Идея фильма-воспоминания, каким “Зеркало” предстает
в большинстве критических разборов, кажется несколько странной если
вспомнить, что Тарковскому в момент первого замысла было чуть за тридцать,
- возраст не мемуарный. Но не воспоминаний ради затевался фильм, их
роль служебная, они всего лишь материал для выстраивания повествования
о матери, - своего рода экзистенциального заказа пребывающему
в житейском и в творческом тупике художнику. Фильм задумывался в момент,
когда стали явственно разлаживаться привычно-органичные до того связи
с близкими, друзьями, коллегами, когда лихорадка первых лет свободного
полета, - таких обнадеживающе успешных (не будет преувеличением сказать
триумфальных), - насытила молодость продуктивным трудом, и вдруг вместе
с молодостью прекратилась, когда мир, открывшись было во всей своей
заманчивости и безграничности, схлопнулся в черную дыру Госкино, и подвис
стоивший стольких трудов “Андрей Рублёв”. Обращение к воспоминаниям,
теме детства стало вдруг насущным менее всего потому, что Тарковскому
захотелось что-то там “осмыслить-переосмыслить” - человек и так все
время этим занимается, - а потому, что навалились на него в тот момент
пришедшие на смену изменившим ему светлым и легким духам удачи и счастья
тяжелые, мутные и злые духи совкового бытия, перед которыми он, художник,
оказался беззащитен. Можно назвать это бегством, но тогда само творчество
может оказаться бегством – популярный у психоаналитиков тезис, - а это
ложный, дезориентирущий шаг.
Творческой составляющей нового замысла стал выбор принципиально
иной, нежели в "Андрее Рублёве", стратегии нарратива; отсюда первый
вольт – вкупе со сменой исторического фона на актуальный *2
в фокус помещается не историческая, не публичная
фигура, а сугубо приватная. Житейской – выход на первый план матери
в качестве фигуры протагониста. “Источник”, “родник” - слова переходящие
из текста в текст о четвертой картине режиссера, которого раздражало
выражение “поэтический кинематограф”, - такие банальные, тем не менее,
в этом случае самые уместные. И снова, как и в "Солярисе", интенция
материала мало-помалу брала верх; “живая вода” - не убитый в художнике
опыт состоявшегося детства – оказывалась сильнее всяких замыслов и умыслов;
снова по мере воплощения, - в сценарии, по ходу съемок, затем на монтажном
столе, замысел обретал совсем иные очертания.*3
Сейчас, задним числом, можно было бы сказать, что
“Зеркало” просто не могло быть иным, - если бы его не сделал таким Тарковский...
И если бы оно не сделало Тарковского таким…
Как до того сделал Тарковского вклинившийся между “Белым, белым
днем” и “Зеркалом” "Солярис". Крис Кельвин перестал пугаться своих наваждений,
отдался им, смирился - только сменил имя, вышел из кадра и
прокомментировал их. Получилось “Зеркало”. Рассказ о человеке, который
всего лишь хотел быть счастливым - и потерпевшим поражение.
Как повод для всяческих толкований “Зеркало” оказалось самым
благодарным из творений Тарковского: коэффициент промашек, фальши и
прямого вранья здесь относительно невелик. Сказались и свободная форма
построения, провоцирующая на такую же свободу суждения (выглядит как
парадокс, но вспомним, что именно незашоренность делает интеллектуальный
поиск успешным), и, разумеется, очень близкая и “теплая” фактура. Если
бы понятие “народ” применялось к интеллигенции (странно и даже дико
звучит само такое предположение), то “Зеркало” можно было бы назвать
“народным” фильмом. Вопрос о чем фильм мог быть неясен только номенклатуре,
не являющейся “народом” ни в каком смысле, и внимающей только собственному
новоязу. Практически все толкования были, так или иначе, вариациями
на тему “о времени и о себе”, о становлении личности творца, о сущности
и цене творчества, иногда шире – о культуре в целом.*4
Не в печати, кулуарно, были отмечены ирония, налет
вольномыслия и т.д. Тем не менее я осмеливаюсь сказать, что главное
и в этом случае опять ускользнуло. “Я всего лишь хотел быть счастливым”
говорит в конце фильма Алексей. “Зеркало” - поэма о счастье.
Но счастье не есть тема “Зеркала”, так же как смирение
– не тема "Соляриса".*5
В индийской классической эстетике есть категория «раса»,
трудно переводимый термин обозначающий эмоциональную модальность, настроение,
интонацию, состояние, которому всякое произведение искусства во всех
формальных составляющих должно быть подчинено, с тем, чтобы передать
именно его. Мне еще не раз, и не только для краткости, придется пользоваться
этим экзотическим термином, сводящим в одно понятие длинный ряд синонимов.
Раса, в кажущемся противоречии эфирной легкости субстанций
ею подразумевамых, на деле оказывается основой, и не только всякого
произведения искусства, но творчества в целом, - той, по которой снует
уток воображения. Так вот, смирение "Соляриса" есть его раса.
Раса «Зеркала» - счастье.
Но, прежде чем развить этот неожиданный на первый взгляд тезис,
я опять же предлагаю присмотреться к фильму заново с тем, чтобы выявить
моменты обеспечившие ему культовый статус, тем более, что они не очевидны,
вернее, их очевидность обманчива: будучи приманкой, они скрывают то,
что выйдя наружу позже, в других фильмах, оказалось изрядной проблемой,
перекрывшей публике, соблазненной комплиментарностью этого зеркала
для всех, пути к подлиному постижению. *6
Например, такой едва ли не решающий, но никем до сих
пор, сколько я могу судить, не отмеченый фактор как обаяние современности,
лишенной напрочь каких-либо идеологических клише и того, что как раз
вошедший о ту пору в наш интеллектуальный обиход Герман Гессе назвал
“фельетонизмом” - медийной дешевки, в данном случае специфической советской.
Ни малейшей “совковости”, густо уснащавшей все тогдашние фильмы о “современности”
тошнотворными пометами постылой обыденности, стремящейся упаковать жизнь
в известные пятиугольники, в которых всякий угол – красный: если не
ЗАГС, то партком, не план - так прокурор, не шинель - так ватник, etc;
и в каждом, как и полагается красному углу, лубок-икона: богатырь-начальник,
проныра-бригадир, охочий до правды-матки пролетарий и их ситцевые женщины.
Взамен всего этого “Зеркало” явило вещную скудость нагой жизни интеллигента,
не распиханной по углам, но словно транзитной - то ли переезд, то ли
ремонт. Та самая комплиментарность, которой остро недоставало "Солярису",
здесь с избытком распространялась не на героя только, остающегося за
кадром, и потому легко замещаемого любым по эту сторону экрана, - на
самый образ жизни его. Мы как раз тогда, за неимением барахла поухватистей,
вошли во вкус бытия в “духе”, не слишком святом правда (причащались
портвейном на кухне, - ну так иные и вовсе в парадняке), зато весьма
самолестном. Здесь даже попадались настоящие иконы; изъятые из деревенских
квасилищь, избавленные от огуречно-капустного придуха, они пикантно
разбавляли своей несколько угрюмой деревянностью бумажный праздничный
чин: Ван Гог - Сальватор Дали - Хемингуэй на рыбалке - дыра в обоях
– св. Никола в житии. В почете были слово “экзистенциализм” и люди способные
легко и к месту его произносить. Взамен навязываемых нам ветхих добродетелей,
вроде готовности броситься на любую по случаю подвернувшуюся амбразуру
или умения ненароком донести на соседа, мы пестовали в себе новые, в
ряду коих первые места занимали ирония и знание английского без словаря.
К нам вернулась способность начитанных людей без опаски помечать происходящее
цитатами из классики, - для того хотя бы, чтобы выстроить подобие родословия
вечно не поспевающему за настоящим опыту; собственно, мы пытались сподручными
средствами восстановить, пусть только в себе – не собой (как
Гамлет) - связь времен, из которых мы были изгнаны теми самыми “богатырями”,
“бригадирами” и “пролетариями”. И это было главное, что завораживало
в “Зеркале” - совпадение усилия памяти героя-автора с нашим; мы
наконец увидели культурный фильм. Что немудрено, ибо Тарковский
был одним из нас. Он обозначил и выговорил на экране наш опыт, то, чему
вне нас самих до “Зеркала” было одно место – на кухне.
Впрочем, назвать сейчас, тридцать лет спустя, “нашим” опыт человека,
принадлежавшего к поколению шестидесятников значит впасть в некий анахронизм.
Приблизительно такой же, какой допускали сами шестидесятники, когда,
называя себя “интеллигентами”, полагали такое определение достаточным
для обозначения собственной принадлежности к тому же культурному слою,
что и Пастернак, Ахматова или Бахтин, еще живые в пору вхождения в силу
таких людей как Окуджава, Хуциев или сам Андрей Тарковский. Возможно
ли понимание интеллигентности в качестве не просто социальной
функции, но как общности опыта, и соответствующее такому опыту
общности выстраивание идентичности - в свою очередь влекущее чреватую
трудно уловимыми аберрациями приверженность именно этому (в
ущерб прочим составляющим) опыту, завороженность им? Здесь
дело уже не просто в нормальной сиюминутной нечувствительности к микроскопическим
переломам времени, всегда загроможденным актуальностью настоящего. Скажем,
для интеллигентов Тарковкского и Хуциева, встретившихся на съемочной
площадке “Заставы Ильича”, общим опытом была еще и война, но таким,
который переломил время “напополам”, как вопреки всяким языковым нормам
пел Высоцкий. И разница между человеком пережившим и помнившим
войну (Тарковский) и воевавшим (Хуциев), сейчас требующая
отдельного примечания-сноски с тем, чтобы быть хоть как-то отмеченной,
в шестидесятые годы еще доступная непосредственному наблюдению как разница
в количестве и номенклатуре орденов и медалей надеваемых 9-го мая, в
конце сороковых была не союзом, а апострофом опыта, разделяющим тех,
кто видел парад и салют Победы и тех, кто знал ей цену, которую заплатил
сам. Для первых, - кроме Тарковского здесь уместно помянуть и того же
Высоцкого, и Евтушенко, и еще многих, - опыт победы вторых обернулся
опытом поражения в праве на Победу, которая по прихоти истории
не досталось им, родившимся всего-то на пять-семь лет позже; как
будто они были забракованы, “комиссованы” самим временем. “А
в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки”, - в песне
Высоцкого этот опыт запечатлен с такой силой, которая исключает
всякие сомнения в его глубине и значимости. Поколение Тарковского и
Высоцкого было лишено опыта свершения, поманившего их, - взыскующих
его тем более жадно, что наглядно был им явлен не только и не столько
в виде парадов, салютов, слез счастья, брызг шампанского и прочих атрибутов
легко разделяемой сентиментальности, но в виде настоящего, самой высокой
пробы Подвига - …и так и не доставшегося. И пришелся этот чисто негативный
опыт аккурат на возраст, когда человеку больше всего нужно свершение
– если не подвиг, то хотя бы авантюра. Подвига не досталось,
авантюры, кому какая по плечу, подыскивались в доступном – в подвалах
и полуподвалах.
Принято считать, что подобный опыт, как травмирующий, обыкновенно
подлежит сублимации и вытеснению. Но дело не только в видах психической
экономии; жизнь продолжается, не считаясь ни с каким травмами и болями,
и требует преодоления и поражений и побед. Человек, прошедший через
подобный, ушедший в подкорку, в бессознательное опыт поражения и не-свершения,
становится не только уязвим (всякая неудача грозит обернуться новым
поражением), но еще и чуток к тем самым, недоступным обыденному сознанию,
микроскопическим переломам-сдвигам: прихоти тропы, обогнувшей уже давно
поросшее травой препятствие, к ветру, обделившему твой парус, но расправившему
чей-то флаг рядом, к внезапной ломкости отозвавшегося на неслышимые
колебания стекла, словом - к случаю; он знает его цену. Возможную
цену. Для одного такое знание становится поводом выстроить свою систему
примет приманивающих неудачу; для другого – мистическим переживанием
значительности несвершившегося возможного, бесконечной и таинственной,
перед которой блекнет любая актуальность, замкнувшаяся в завершенности
данного.
Вот и получается, что легко, с листа, считываемый зрителем-интеллигентом
перечень примет “нашести”, сколь угодно подробный и точный, ни йотой
не изменяя своей топографии таил подвох для его – зрителя – готовности
принять это зеркало за свое. Слишком многое разнило людей пытавшихся
быть интеллигентами в те годы в стране, история которой ломалась через
колено по многу раз на и без того коротком отрезке жизни человека. Счет
поколений не укладывался в календарную цифирь. Мы искали себе лицо с
“необщим выражением” – и в то же время, утомленные собственной разностью
и отщепенством, невмещаемыми в предуготовленные нам партией и правительством
коллективы, в поиске общности и союзничества «на стороне» всячески бежали
необходимого для становления личности опыта одиночества. Того великого
experienc’a, через постижение которого только и возможен опыт Другого,
открывающий путь к любому подлинному постижению. Мы же только и научились,
да и то плохо (все время напарывались на стукачей), что распознавать
своих.
В "Зеркале" Андрея Тарковского публика увидела свое,
– и не увидела другого. Хотя и другое и Другой
тоже не чужой природы были, и не из-за семи морей мерцали неземным
светом.
(продолжение следует)

примечания
"SOLARIS"
*1 Иного фильмы Тарковского вроде
бы и не предполагают, но, как всякий честный художник, Тарковский обращается
не к препарированному по всем правилам культурной вивисекции высоколобому
интеллектуалу, а всего лишь к чуткому зрителю.в
текст
*2 В предисловии роману “Голос Неба”. В наших
изданиях оно было воспроизведено только однажды, при первой публикации
романа (в сокращении) в сборнике издательства “Наука”, в 1970г. Очень
ценное признание. Оно затрагивает существенный для понимания творчества
вопрос - насколько "понимает" собственное творение автор, нуждается
ли он вообще в таком понимании и т.д.в
текст
*3 Известно, что Лем был (и остался) очень недоволен
отсебятиной авторов сценария. Видимо он был одержим известной ревностью
автора к тем, кто хочет перерядить его детище в неподобающее платье.
Собственного отчетливого представления о том, что именно должно быть
сделано, чтобы получился не липовый “сайенсфикшн”, а что-то более вразумительное
у него, похоже, не было.в
текст
*4 Вообще подобный феномен, - и его
роль в истории культуры, - под именем "предрассудок" подробно рассмотрен
Г.Гадамером в его книге "Истина и метод". в
текст
*5 Тарковский дальше всех зашел в освоении материала.
Оно и понятно, у него был своего рода гандикап – необходимость перевода
имеющегося в наличии текста в другое драматургическое измерение. в
текст
*6 Что оказалось еще одним поводом для недовольства
автора романа. Но интересно, задавался ли сам Станислав Лем вопросом
о том, каким именно образом и какой ценой, - финансовой, эстетической,
- мог быть в фильме реализован в полной мере научно фантастический аспект
книги? в текст
*7 Объявляя эту тему “подлинной”, я видимо вступаю
в противоречие с авторской концепцией, которая одушевляется пафосом
познания… Но в контексте творчества С.Лема в целом, которое представляется
мне именно развернутой критикой “научного” познания, познания-прогресса,
этот пафос оказывается под вопросом. Можно сказать, что в дальнейшем
пафос оказывается сначала заключенным в скобки, а потом и вовсе в кавычки.
Здесь же, в “Solaris”, в скобках оказывается вопрос. Но он уже есть.в
текст
*8 Правильней было бы “новая”, т.к. у С.Лема
Solaris – планета, и имя у нее женское. Но авторы сценария были дезориентированы
оплошностью русского перевода, где этот нюанс пропал, и Solaris стал
океаном-мозгом-мужчиной.в
текст
*9 Все-таки одной женщины (Хари) Тарковскому
оказалось для фильма недостаточно и место Марии заняла молодая мать
(вернее ее призрак) Криса Кельвина, Это удвоение женского образа, как
постоянный мотив, проходящий через все фильмы, могло бы послужить благодарным
поводом для построения изящной психоаналитической концепции, но, думаю,
мне удастся найти иное объяснение этому очень любопытному моменту.в
текст
*10 Имплицитно, как "вечная", она, разумеется,
присутствовала, - естественно в соответствующем идеологическом обрамлении,
например, у Хуциева в "Заставе Ильича", - но никогда в откровенно
метафизически ориентированном художественном высказывании, как на пределе
бытия поставленный вопрос "кто я?"в
текст
*11 Строго говоря, Хари воплощает и то и другое,
т.к. это не одно понятие. отрефлектированное в терминах разных дисциплин,
но две ступени самопознания человека.в
текст
*12 Этот промах повлек за собой другой, еще
более курьезный: Хари приписали пастернаковское “усилие воскресенья”
- ей, из небытия и не по своей воле возникающей, и обратно
в небытие, но уже собственным волением, обращающейся. Этот придаток,
как шлейф особу голубых кровей, изрядно ее украсил, и был с готовностью
подхвачен идущими за Туровской след в след: “усилие воскресенья”, при
всяком упоминании Хари, стало непременным ее атрибутом.в
текст
*13 За исключением “Зеркала”, о котором, в данном
контексте, разговор особый.в
текст
*14 Таковы уже упомянутые “уши”. В первом случае,
в разговоре Кельвина со Снаутом, это “саспенс” в чистом виде, во втором,
в монологе Кельвина, это, не лишенный скрытого лукавства, маневр предпринятый
с целью, так сказать, расщепить зрительское внимание, сбить его с толка,
- та самая синкопа. А еще это монтажный кунштюк, смягчающий и выравнивающий,
маскирующий стык со следующим кадром. Таких примеров, более или менее
прозрачных, можно настричь по всем фильмам изрядное количество, и мне
еще не раз придется с ними разбираться.в
текст
*15 Что и позволяет мне квалифицировать мнение
уважаемой мной Майи Туровской как ошибочное.в
текст
*16 Следует отметить, памятуя сказанное о “синкопах”
и “обертонах” Тарковского, что этих ключевых слов в его фильмах мы не
найдем.в текст
*17 Потом пришел черед и ему, но сильно позже
– в “Сталкере”, “Ностальгии”, “Жертвоприношении”, - и в обличиях совсем
не облегчающих душу зрителя.в
текст
*18 Я хорошо помню недоумение вызванное известием
о присуждении фильму в Канне приза экуменического жюри.в
текст
*19 Той, ключа к которой, по собственному признанию,
так и не смог найти Ингмар Бергман. Теперь его высказывание о фильмах
Тарковского из книги “Laterna Magica” пришпиливается чуть ли ни к меньшим,
чем цитата текстам о режиссере. в
текст
"Зеркало"
*1 Мать: Ты счастлив?
Крис: Ну, это понятие сейчас как-то неуместно…
Реплика Криса – возвращение в реальность, и это подчеркнуто интонацией.
в текст
*2 Андрон Михалков-Кончаловский в это же время затевает
концептуально схожий проект - «Асю Клячину» - но как далеко расходятся
замыслы вчерашних друзей в процессе осуществления (и в судьбе)! в
текст
*3 Л.Фейгинова, постоянный монтажер всех снятых на
родине фильмов Тарковского, вспоминала, что было перепробовано более
полусотни вариантов склейки прежде, чем были найдены нужные ритм и строй
картины. в текст
*4Эссе М.Баткина, на мой взгляд лучшее из всего, что
по сей день написано о Тарковском. И лучший анализ формы. в
текст
*5 Повторяю, - до поры оставляя этот тезис без подробной
разаработки, - что темой Тарковского, начиная именно с рассматриваемого
сейчас периода и двух относящихся к нему картин, всегда остается Тайна:
несказуемое средоточие бытия. в
текст
*6 Похожая история случилась и со "Сталкером", также
ставшим культовым, правда совсем у другой референтной группы (у подростков).
в текст

|
Блики и Пирамиды
Solaris by Тарковский
Зеркало для всех - и другое
АНОНС:
Неузнанный Сталкер
Ностальгия земная и небесная
ЖертвоприношениЯ
SiteMap
|