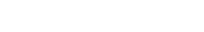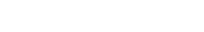|
Блики и Пирамиды
Solaris by Тарковский
Зеркало для всех
- и другое
АНОНС:
Неузнанный Сталкер
Ностальгия земная и небесная
ЖертвоприношениЯ
SiteMap
|
НЕУЗНАННЫЙ
СТАЛКЕР
При всяком чтении "Откровения
Иоанна Богослова" меня особенно поражает «небо, свившееся как свиток»,
– образ истинно сюрреалистический, ужасный и невозможный, такие рождаются
на лету пера, в раже и угаре, «видение» нечеловеческое, от самой попытки
вообразить такое стынет кровь
..........................................................................................
В «Сталкере», среди всех его загадок, есть одна особенно заковыристая:
закадровый голос Алисы Фрейндлих (жены главного героя) читает текст
из Откровения Иоанна Богослова. Тому, что мы видим на экране, сопоставляется
некая классическая тема, - тема Конца Света, Апокалипсиса. Ни в какой
прямой связи с сюжетом она не состоит, да и звучит, помимо закадровости,
под сурдинку: голос актрисы снижен до полушепота, ласкового и нежного.
Вскрытие пятой печати, со всеми знамениями ему сопутствующими, подается
как чтение ребенку страшной сказки перед сном, - чтобы не напугать,
чтобы страшные сны не привиделись. Ребенок, которому читается такая
сказка, очевидно Мартышка. Впрочем, вся эта предполагаемая мизансцена
остается за кадром вместе с ласковым маминым голосом. Происходящее на
экране – длинная панорама-натюрморт, сопровождаемое оккультно-метафизической
музыкой видение ошметков культуры на дне не то лужи, не то болотца.
И тут же, - пристроившиеся передохнуть на кочках-островках герои, ведущие
в темпе дремоты довольно нелепую прю о судьбах цивилизации и культуры,
смахивающую и интонационно и содержательно на этот самый утопленный
натюрморт. Вычленение кодов из столь густого замеса образов, ассоциаций,
аллюзий и реминисценций стоило бы диссертации. В данный момент меня
интересует один: к чему здесь Апокалипсис, а вернее – именно это место
из него? Имеет ли оно вообще – в таком виде - сколько-нибудь поддающееся
внятному истолкованию значение?
Для начала я предлагаю самое простое, лежащее на поверхности: таким
образом вводится, причем независимо от намерений автора, каковы бы они
ни были, некая относительная хронология - действие фильма происходит
во время снятия Пятой печати. То есть, наше время это время Апокалипсиса.
И Апокалипсис здесь не код, не существительное-эссенция, настоятельно
и назойливо адресованное нашему рацио и подлежащее немедленному nunc
et hoc истолкованию, а скользящее обок наших интенций, уведенное в тень
и глубь, на периферию восприятия прилагательное-интонация.
Или, опять же, раса.
Раса "Сталкера" - ужас.
Но это вовсе не значит, что нам предложен триллер: не надо путать ужас
со страхом и испугом...
Ужас "Сталкера" - подземная река, темная вода, ток лавы, подпирающий
гулом и зудом стопы бредущих по Зоне путников; макабрическим зовом равелевского
"Болеро" и вагнеровского "Полета Валькирий" отдается
он в грохоте проходящих мимо жилища Сталкера поездов; дышит из зева
бункера, в заветном нутре которого ждет воплощения Сокровенное; эхом
ледяной капели и хруста раздавленного стекла полнит Мясорубку - и нескончаемо
тянет ее изгиб; вдруг обрушивает гнилую поперечину столба - и никак
не дает достигнуть дна камню, брошенному в колодец... Ужас Дикобраза,
- неявленного черного мага Зоны, - понудивший его вытоптать цветы, пустить
впереди себя в Мясорубку брата, самому - тщась от Ужаса избавиться -
войти в Комнату, и, не отпущенному Им - повеситься.
Ужас Бытия
.......................................................................................................
Время обретает плоть. Плоть времени – раса. Поглощенный экранным
временем и захваченный расой этого слегка апокалиптического
видения, зритель оказывается почти участником происходящего на
его глазах действия. В «Сталкере» Тарковскому удалось, пожалуй, более,
чем в других фильмах, реализовать свое понимание кино как Запечатленного
Времени. Наверное поэтому по сей день «Сталкер» остается самым популярным
из его творений…
…И наиболее превратно толкуемым. Одно соотнесение Зоны с Чернобылем
и присвоение фильму статуса пророчества, чего стоит! Какие, однако,
шутки подстраивает захваченность современного состояния умов параболой
Иоанна Богослова; как точно учуял, - потому что сам был ею захвачен,
- Тарковский эту лихорадку времени! И какой грандиозной нелепостью оборачивается
привычка к игре с шифрами и кодами там, где предложена совсем другая
игра! И первой жертвой этой нелепости становятся фильм и его автор.
О других нелепостях еще будет сказано немало по ходу разговора, но всех,
разумеется, и не перечислишь. Вот, для затравки, еще очень любопытный
пример. В конце 80-х журнал «Искусство Кино» опубликовал небольшую анкету
с вопросами о творчестве и личности Андрея Тарковского, распространенную
среди нескольких довольно заметных, но прямо с кино не связанных деятелей
культуры того времени. Один из них (я не упоминаю его имени, дабы лишний
раз не срамить достойного человека, допустившего подобную глупость возможно
по легкомыслию) сказал, – цитирую почти дословно, – следующее: зачем
Сталкеру ходить в какую-то Зону, если для того, чтобы ощутить полноту
бытия достаточно выйти по весне в ближайшую рощу, прислониться к березке
и вдохнуть полной грудью. Как говорится, - без комментариев. Но…
За чем Сталкер идет в Зону?..
И что такое Зона?
По ходу фильма и главный герой и его спутники несколько раз пытаются
ответить на эти вопросы как насущные для них самих. Все их догадки так
или иначе укладываются в тавтологию Сталкера «Зона это…Зона». Этому
коротенькому резюме предшествует более развернутое, но чисто негативное
описание: «мы не знаем, что здесь происходит в наше отсутствие, но стоит
появиться человеку – и все здесь приходит в движение: старые ловушки
исчезают, проходимые прежде места становятся опасными…» и т.д. Когда
братья Стругацкие писали это, – сознавали ли они, что предлагают 1001-ую,
но от этого не менее, а кабы не наоборот, выразительную и итожащую все
прежние формулу Мироздания? И место, где сбываются заветные желания
или, скорее, надежды, упования, так как слово «желание» не очень подходит
для описания состояния человека более стремящегося избавиться от чего-то
(муки, тревоги, страха), нежели что-то обрести, - последнее прибежище
человека, потерявшего всякие иные опоры в жизни, пустое средоточие пространства
наглядно неописуемого, - что это, если не воплощенный апофазис Бога?
.................................................................................................
Поход исписавшегося и близкого к тому, чтобы спиться Писателя и одержимого
стремлением остановить нашествие Зла Профессора в сопровождении убогого
проводника в Зону – место запретных чудес - обретает масштаб истинно
космической мистерии. Неказистость антуража, самих героев, незамысловатость,
вопреки ожиданиям и надеждам, их действительных приключений снижает
пафос происходящего точно так, как это проделывает голос жены Сталкера
с Откровением. Снижает, маскирует, но не отменяет, и – не растворяет
в иронии. Иронии тоже есть место, но как синтагме – единичному и случайному.
Пример такой ироничной синтагмы являет сама троица протагонистов: двоица
ведомых по Зоне Писателя и Профессора, и ведущего Сталкера. Но и она
оказывается заражена-заряжена масштабом мистерии – сопоставлением с
ночными путниками из Евангелия от Луки, в котором Сталкер оказывается
неузнанным Христом, причем знаком, дозволяющим такое сопоставление,
маркирующим его, становится именно неузнанность, укрытость пеленой случайного
самой фигуры Сталкера (его якобы юродивость) и удержанность глаз («они
не узнали Его ибо глаза их были удержаны») его спутников. Такое качание
между синтагмой и парадигмой как сквозной смыслообразующий прием, в
фильмах предшествующих бывший эпизодическим, здесь становится основным
и продолжает развитие в следующих, превращая их в своего рода трилогию
фильмов-притч. Притча, анекдот, коан и есть парадокс прорастания парадигмы
сквозь скорлупу синтагмы.
(продолжение следует)
НОСТАЛЬГИЯ ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ
What should such fellows as I do
crawling between earth and heaven
На кой придурки вроде меня
ошиваются между небом и землей
(пер. Гринина)
Shakespeare, «Hamlet»
..........................................................................................
"Ностальгия" наименее доступный для понимания фильм Тарковского.
Недоумение может вызвать само название: о какой ностальгии идет речь,
если в фильме нет ни одного персонажа - экспатрианта. Правда есть эпизод,
где произносится это слово. Эуджения рассказывает о вычитанном ею из
газеты случае, когда служанка из Калабрии из-за тоски по родине сожгла
дом своих хозяев - препятствие, как представлялось ей, к возвращению
в свой дом. Из этого, проходного в общем-то, эпизода мы можем заключить,
что Эуджения пересказывает Горчакову эту заметку потому, что его интересует
тема ностальгии. Кроме того, Горчакову все время снится дом, жена, и
ему кажется, что кто-то (жена?) окликает его по имени. Италия, по его
собственному признанию, ему уже осточертела. Но, спрашивается, может
ли всерьез идти речь о ностальгии у человека, находящегося в чужой стране
временно, и не испытывающего ни малейших сомнений относительно своего
скорого возвращения?
Тем не менее, мы видим, что герой мается какой-то маетой, причина которой
не вполне ясна. И мается не один он. Явно не в своей тарелке Эуджения,
не говоря уже о Доменико. И точно так же не вполне ясен источник их
тоски. С Эудженией, казалось бы проще: мы можем предположить, - автор
сам подталкивает нас к такому выводу, - что она безответно влюблена
в Горчакова и оскорблена его невниманием к ней. Но, по мере развития
действия, становится ясно, что Горчаков не причина ее душевного разлада,
разве что катализатор.
Короче говоря, мы видим трех героев, находящихся в состоянии сильной
душевной смуты, которая имеет мало общего с тем, что мы привыкли называть
ностальгией. Если сравнить название этого фильма с другими названиями
фильмов Тарковского, то мы увидим, что все прочие имена соотносятся
с содержанием очень конкретно: с персонажем ("Иваново детство",
"Андрей Рублев", "Сталкер"), с местом действия ("Солярис"),
с самим действием ("Жертвоприношение"), либо, наконец, с ключевой
и прозрачной метафорой ("Зеркало"), В "Ностальгии",
на первый взгляд, такого соотнесения нет. Удовлетворимся для начала
тем, что название как-то соотносится с состоянием души героев, мучительным
и болезненным, которое и является причиной всего происходящего.
Так что же в фильме происходит? Сюжет только с виду незамысловат; он
как ручей, норовящий чуть ли не на каждом шагу спрятаться во мху, нырнуть
под корягу, укрыться кустом, - дает отследить свой маршрут не тому,
кто честно следуя его извивам, ежеминутно спотыкаясь и проваливаясь,
пытается проложить по нему свой, а тому, кто взобрался на пригорок и
по приметам местности угадывает capriccio его русла; случайный блик,
кивок ветки, вспорхнувшая вдруг птаха оказываются точней и надежней
любой карты. С первого раза он дается даже не всякому привычному к пресловутой
"зауми" Тарковского. Проследить его в пересказе будет не лишним.
Русский писатель Андрей Горчаков путешествует по Италии, собирая материал
для своей новой книги. Его сопровождает гид и переводчик - молодая красивая
женщина Эуджения. Горчаков все время пребывает в рассеянности и меланхолии,
принимающими подчас такие формы, которые его спутнице кажутся чрезмерными;
она отказывается его понимать. Этот разлад между ними становиться все
более и более нестерпим, в основном для Эуджении, которая испытывает
влечение к Горчакову; у нее свои проблемы, свое житейское неустройство.
В их странствии им попадается необычный человек, которого все считают
сумасшедшим. Тому есть все основания - Доменико (так его зовут) продержал
свою семью - жену и двоих детей - взаперти семь лет, до тех пор, пока
их не освободила полиция. Узнав его историю, Горчаков почему-то отказывается
признать в нем безумца. Писатель ищет нетривиального опыта жизни, воплощением
которого, судя по всему, и предстает перед ним Доменико. Горчаков идет
на контакт с ним. Между русским и итальянцем происходит странный, почти
бессвязный разговор, мучительный для них обоих, но в результате этой
встречи между ними устанавливается некая связь едва ли не мистического
свойства, знак которой - огарок свечи - Андрей уносит с собой. Доменико
берет с Андрея обещание, что он сделает то, что не дают сделать ему
самому: пройдет с зажженной свечой через бассейн с горячей водой из
серных источников; Доменико считает, что это действо спасет мир. От
чего и для чего нужно спасать мир Доменико Андрею не объясняет, да тот
и не спрашивает; получается, что им обоим это ясно и без всяких слов.
Мы же узнаем об этом уже почти в конце фильма из довольно бессвязной
проповеди Доменико в Риме, предшествующей акту публичного самосожжения,
каковой также, по мысли Доменико, должен способствовать спасению мира.
Но это я уже забежал вперед. Пока же Горчаков обещает сделать это, -
пройти со свечой через бассейн, - не потому, что исполняется его верой,
но потому что согласие - единственный способ корректно выйти из создавшейся
двусмысленной ситуации. Немудрено, что он покидает Доменико в еще большем
смятении, чем до встречи.
Далее следует что-то вроде объяснения между Андреем и Эудженией, в результате
которого она покидает его и уезжает в Рим, к некоему Витторио, который,
видимо, способен избавить ее от всех проблем (надо полагать, главным
образом от тех, от которых не стал ее избавлять Андрей). Тут же обнаруживается,
что маета писателя имеет, кроме психической еще и физиологическую природу:
он натурально болен, у него идет носом кровь. Андрей остается один.
Его мучают видения дома, к которым теперь примешивается и призрак Доменико.
Об обещании он забывает. Душевная смута преодолевается волевым решением
- он отправляется в Рим с тем, чтобы оттуда вернуться домой. Здесь,
уже на чемоданах, его застает телефонный зов Эуджении: она сообщает,
что Доменико тоже в Риме - затевает какую-то акцию, передает привет
Андрею, и интересуется, сделал ли он то, о чем они условились. Почти
машинально Горчаков отвечает, что да, сделал. Но это ложь. После некоторого
колебания, он откладывает отъезд, и возвращается в то местечко с горячими
водами, где ему предстоит спасти мир - он хочет смыть ложь. Я настаиваю
на таком толковании этого эпизода, так как ничто не заставляет нас даже
заподозрить героя в том, что он верит в сотериологический эффект возложенной
на него миссии, которую он имел неосторожность принять - напротив, он
делает это почти что против своей воли, потому что она (воля) явно не
отягчена заботой о мире, потому, что ему нет никакого дела до мира:
он болен (сердце) и хочет домой.
Тем временем Доменико в Риме выступает на площади Капитолия, в исторической
декорации Вечного города, с пламенной и бессвязной речью-проповедью
перед десятком-двумя равнодушных прохожих, и завершает сей хеппенинг
самосожжением под звуки "Оды к радости" из 9-ой симфонии Бетховена.
Происходит это на глазах у Эуджении, сбежавшей от Витторио под предлогом,
что ей надо купить сигареты, и появляется на площади, видимо, не случайно
- Доменико ей зачем-то нужен. Но она опаздывает.
Горчакову же попытка выполнить уговор неожиданно тоже стоит жизни: несмотря
на то, что из бассейна для очистки от накопившегося в нем мусора спущена
вода и выполнить замысел Доменико можно буквально не замочив ног, пронести
свечу, не давая ей погаснуть, через продуваемое всеми сквозняками предгорья
пространство в каких-нибудь два десятка шагов оказывается стоит таких
усилий, что его ослабленное болезнью сердце не выдерживает.
Фильм оканчивается смертью двух главных героев. Причиной смерти оказалась
именно их душевная смута, а не какое-то особенное хитросплетение трагических
обстоятельств.
Ностальгия...
..........................................................................................
История, рассказанная Тарковским, с обыденной, житейской точки зрения,
это история двух не вполне нормальных людей, И здесь сразу же припоминается,
что "нормальных" людей в фильмах Тарковского, во всяком случае,
среди главных персонажей, мы не найдем. Все - Андрей Рублев, Алексей
из "Зеркала", Крис Кельвин, троица из "Сталкера"
(а с женой и дочкой Сталкера - и вся пятерица), Александр из "Жертвоприношения",
- все они собратья Горчакова и Доменико по душевной смуте. Но в других
фильмах они представлены в экстремальных ситуациях (исключение - "Жертвоприношение",
где ситуация намеренно двусмысленна), и их состояние воспринимается
как реакция на ненормальность происходящего. Здесь же обстоятельства
самые обыкновенные и ничего угрожающего в них нет. Отчего тоскует Горчаков?
Почему Доменико уверен, что мир надо спасать? Их окружают люди, их тревоги
явно не разделяющие.
Одна из них - Эуджения. Но и с ней не все в порядке. Её поиск мужчины
и счастья отчего-то безуспешен. Почему-то ее безотчетно тянет к Андрею,
несмотря на то, что он зануда и дурно одевается. И от Витторио, который
занимается вовсе не "спиритуальными проблемами", как он ей,
судя по всему, напел, а какими-то темными махинациями, как это невзначай
обнаруживается сразу после ее телефонного разговора с Горчаковым, -
от этого мачо она бежит к безумному Доменико.
Высокая природа безумия героев не столько прочитываема, сколько угадываема,
она слишком символична в сравнении с конкретикой среды, и этот разрыв
чреват разрывом в восприятии - от зрителя требуется известное интеллектуальное
усилие, либо "избирательное сродство", - чтобы восполнить
его, иначе недоумение и безответные вопросы неизбежны,
Что толкает Горчакова на несуразные поступки? Первое же его появление
обнаруживает его несуразность, неадекватность: он отказывается идти
смотреть на Мадонну Дель Парто, ради которой, собственно, и приехал
в этот уголок Италии и о которой, по словам Эуджении, все уши ей прожужжал.
Он проговаривается, называет причину сам: "не хочу я ваших красот
для себя одного только." Одна эта мимоходом, казалось бы, брошенная
реплика, на первый взгляд похожая на инфантильный каприз, объясняет
всё, чему суждено произойти - он ищет разделенности, общности. Он одинок.
И тут же Тарковский дает подсказку-знак о природе его одинокости: вслед
за звуком хлопающих крыльев, переходящим из предыдущего эпизода в церкви,
мы видим как почти на голову героя кружась падает черно-белое перо;
волосы Горчаковы тоже отмечены белым - седым - пятном (унаследованным
от Сталкера). И, следуя взгляду обернувшегося Андрея, мы видим невдалеке
дом и некую смутную колеблющуюся фигуру перед ним – это… ангел. Это
он пролетел над Горчаковым, это звук его крыльев мы слышали, это он
обронил перо. И именно этот дом будет во всех сновидениях манить Горчакова,
голоса оттуда будут звать его. Его ностальгия - по этому дому, его родина,
как и тоска, - не от мира сего.
Горчаков оказался в разрыве бытия, он нуждается в общности совсем другого
рода, нежели та, что повязывает человека в нашем "нормальном"
благоустроенном мире. Ему нужна истинная общность.
Что это такое? Подробный ответ непрост и займет много места, поэтому
пока я ограничусь коротким и простым: это такая общность, где ответ
равен зову. В обыденности Горчаков, Доменико, да и Эуджения тоже (только
в отличие от них она этого еще не осознала), такого ответа найти не
могут, - отсюда их ностальгия. Выше я говорил о том, что Горчаков ищет
нетривиального опыта жизни, что как раз и означает попытку вырваться
из порочного круга обыденности. Оба главных героя не адекватны обыденности:
Горчаков в меньшей степени - и оттого всего лишь несуразен, Доменико
в значительной - и оттого безумен.
Собственно обыденность неоднократно персонифицируема в фильме. Наглядно
– в лоб - в образе этакого "хора" наподобие античного (здесь
отчетливо проступает иронический акцент): говорящие головы в бассейне
и немые статисты в финальной сцене самосожжения Доменико. Окольно, -
в крохотном эпизоде, где хозяйка гостиницы принимает прибывшую к ней
парочку за "жениха и невесту" - здесь это по-провинциальному
деликатный эвфемизм слова "любовники", - а когда Эуджения
устало пытается разуверить ту в ее предубеждении, отметает все возражения
категорическим "уж я-то знаю, как это бывает." Обыденность
знает все: это свод готовых ответов на вопросы, которые никто не задает,
пропись и катехизис. Неуязвимый белый червяк из сна Эуджении - призрак
этого мира, еще одно его воплощение, символ его власти над бессознательным
там, где сознание не может ему ничего противопоставить - хотя бы ту
же мистическую сотериологию. Может быть, кому-нибудь это и покажется
смешным, но и "башмачное наваждение" из мини-эссе подвыпившего
Горчакова, бродящего по затопленным руинам, также сродни этому червяку;
башмак здесь символ обыденности, которой Горчаков отводит единственно
подобающее место - служить будням, а не забивать мозги заботой.
Таким образом, базовой коллизией фильма является именно противостояние
героев обыденности. В чистом виде эту коллизию воплощает Доменико: такова
природа его "безумия" - теперь можно смело закавычить это
слово, ибо в пространстве и времени фильма только он и не безумен, напротив
- он разумен и последователен в каждом своем шаге. Что же до Горчакова
и, тем более, Эуджении, то они еще вполне склонны к компромиссу, и то,
что он им не дается свидетельствует о самой невозможности возврата в
обыденность там, где человек уже, хотя бы и ненароком, выпал из нее,
там, где он причастился ностальгии.
Собственно же фабулу фильма образует поиск героями истинного общения,
- единственно способного вывести из того разрыва бытия, в которое их
ввергло высокое причастие.
............................................................................................
Итак, обыденность, невозможность истинного общения, такого, где ответ
равен зову… В сущности обыденность подменяет зов вопросом тогда, когда
отвечает, - но не на зов, а на вопрос. Ответ, чтобы сравняться с зовом,
должен быть откликом, зов означает "явись!", отклик - "вот
я!" И то и другое исходит из недр обещающего быть полным бытия,
- а это значит, что на кону стоит жизнь. Вот почему погибают (единственный
у Тарковского случай) оба героя, причем если смерть Доменико - его выбор,
то гибель Горчакова им самим ни в коем случае не санкционирована - его
выбор именно жизнь. Выходит он (или, может быть, автор) ошибся? Здесь
притаился подвох: подлинность требует не смерти - жизни, смерть же выступает
метафорическим субститутом жизни, обозначая предел цены. Той, которую
не согласна платить обыденность - сговор о понижении тарифа. Вот почему
обыденность не знает ни зова ни отклика, а только "что это?"
и "это, де, то да се"; риск заплатить сполна заранее вежливо
исключен.
Добиваясь встречи с Доменико, Горчаков еще не понимает, что рискует
угодить в ловушку бытия, еще не знает, что подлинность требует ответа-отклика,
Его зов возвращается к нему, и уже он должен сказать "вот я!",
иначе все случившееся с ним окажется просто дурной игрой, скверным анекдотом
из тех, которые и очень близким людям постесняешься рассказать, - и,
обреченные истлевать в тупиках памяти, они тяжко гнут душу книзу поманившим
и несбывшимся.
(продолжение следует)
-----------------------------------------------------------------------
ЖертвоприношениЯ
Which of you have done this, lords?
Кто из вас сделал это, лорды?
Shakespeare, "King Richard The Third"
Эти слова на языке оригинала - откровенно закавычивая
(говорят-то в фильме на шведском), произносит главный герой Александр,
писатель, а в недалеком прошлом актер, прославившийся кроме прочего
исполнением роли Ричарда III. В русском варианте этот нюанс пропал.
Мало того, небрежность перевода убила на корню смысл и цитаты и цитирования:
lords перевели как "боги". Если бы английский поэт имел в
виду богов, он употребил бы "gods"; слово "lords"
во множественном числе применяется англичанами к людям. Исключительно
к Богу: Lord - Господь оно употребляется только в единственном числе
и, соответственно с большой буквы . В результате не только пропал эффект
цитаты, но истаяло, обратилось в ничто все богатство смыслов этого эпизода.
Эпизода, который, несмотря на его краткость и обманчивую видимость промежутка
в общем навороте событий, является ключевым для восприятия фильма в
целом. Эпизода, родившегося из подсмотренного детства - и поражающего
тонкостью, точностью и глубиной инсайта, снова обнаруживающими соавторство
бессознательного. Я не припомню, чтобы до Тарковского кем-либо еще была
подмечена эта детская повадка, когда стесняясь прилюдности, а также
маскируя анонимностью самую заветность жеста, дети укрывают подарки-подкидыши
в самых неожиданных местах, где, по их расчету, адресат обязательно
должен на них наткнутся.
В таком неожиданном месте - на расквашенной весной обочине, и некстати
– на пике неотвратимо настигающего смятения, обнаруживает самодельный
– заветнее не бывает - подарок сына главный персонаж разворачивающейся
мистерии. Внезапный вид игрушечного удвоения Дома, сопровождаемый продлившимся
из предыдущей сцены ревом низко пролетающего военного самолета, производит
эффект мгновенной аннигиляции масштаба происходящего. Возникает и непросчитываемо
длится кошмарный провал, хиатус – дыра-зияние в хронотопе, который словно
разом и распыляет и вновь собирает перманентную рефлексию Александра
в некой точке: логорея (словесный понос) обрывается шекспировской репликой.
Цитация (вспомним – не просто текста - роли) оказывается попыткой героя
положить предел и укорот истерике, все той же привычкой культурного
человека маркировать происходящее на лету - дабы не спасовать, не умалиться
вчуже перед тем, с чем не успеваешь справиться. Which of you hawe done
this, lords в обратном переводе на язык эмоций значит (и слово lords
в качестве оговорки обнаруживает ту ячейку бессознательного, откуда,
как deus ex machina, выскочила цитата): Господи! да что же это творится?!
Но в проговаривании - героем, и в слышании - зрителем, и в контексте
фильма в целом вторым голосом звучит: люди ("доблестные" -
lords!), что же вы наделали... Именно люди - никак не боги.
В это крошечном эпизоде, на блеклое, тяжеловесное и все-таки куцее описание
которого я был вынужден затратить столько слов, сплавлено воедино столько
смыслопорождающих уровней, не укладывающихся даже в хитроумные и гибкие
лекала нынешних виртуозов ratio – всех этих синтагм-парадигм, оппозиций
и различений-различаний, - что дух захватывает.
И вот этот перехват, сбой дыхания, паузу сердца я и рискну, - в нарушение
и поперек кодификации рас, коих, не исчерпанных мной, девять
– объявить расой последнего фильма Тарковского
.
..................................................
Известен старый анекдот, что де тому, кто сумеет связно изложить сюжет
оперы Джузеппе Верди «Трубадур» согласно завещания некоего чудака причитается
большая премия. Не помню точно кто – Розанов или Венгеров – впервые
обратил внимание на то, что действие «Мертвых душ» происходит не только
неизвестно где, но и непонятно в какое время года: все вычитываемые
из текста приметы, - как одеты герои, зябнут ли они или потеют и т.п.
– противоречат друг другу иногда в пределах не только главы или страницы,
но даже в одном абзаце; этакое демисезонье. Еще пара примеров в этом
же роде из других искусств. Мало кто даже не только из посетителей Эрмитажа,
но из специалистов-искусствоведов замечает дикую анатомическую ошибку,
допущенную Рембрандтом в картине «Давид и Урия» в изображении Урии,
- он сухорук, кисть взрослого человека приделана к предплечью и плечу
ребенка; дефект маскируется рукавом и оттого не бросается в глаза. Как-то
я с помощью лупы исследовал факсимильную репродукцию известной гравюры
Дюрера «Блудный сын», пытаясь разобрать какая нога у стоящего в профиль
к зрителю на одном колене бедолаги левая, а какая правая… Не разобрал.
И готов побиться об заклад, что никто не разберет. Из подобных ошибок,
нелепиц, накладок, допущенных великими художниками, можно составить
пухлый том.
В последнем фильме Тарковского тоже есть подобная мина, - только она
оказалась там не по недосмотру, а вполне намеренно – как трюк, драматургический
кунштюк. Настигший интеллектуала и артиста Александра в его день рождения
кошмар и морок кончается на следующее утро; а когда и с чего, с какой
точки он начался? Более или менее надежна только одна авторская подсказка,
- когда на заговорившегося и потерявшего его из виду папочку прыгает
сзади проказник-сын, с первым то ли от испуга, то ли от удара случается
легкий обморок, в котором ему открывется видение разоренного проулка,
забитого мусором и хламом. Все другие странности и нелепости этого знаменательного
дня, вплоть до апокалиптического телевоззвания, случаются после, а значит,
согласно классическим драматургическим понятиям, и вследствие. И все-таки
это хилая подсказка, потому что странности начинаются сразу, до обморока,
с начала фильма, с момента появления почтальона – черта и провокатора
– и связаны с этим персонажем более отчетливо, или, скажем, менее смутно,
ибо приходится быть осторожным в разговоре об этом намеренно и насквозь
двусмысленном опусе. На почтальона замкнута и сюжетная кульминация первой,
«кошмарной», части фильма, а именно – попытка спасения мира посредством
вступления в интимную связь со служанкой-ведьмой. То есть мы не можем
узнать когда все это началось. Мы сталкиваемся здесь с редким для кино
драматургическим ходом, который можно назвать, по аналогии с «открытым
финалом», открытым зачином: фильм начинается с многоточия и с маленькой
буквы. После высокого камертона «Волхвов» Леонардо и музыки Баха в титрах
мы оказываемся в интонационном вакууме первой сцены; даже зритель готовый
к тому, что Тарковский требует полной концентрации внимания не сразу
схватывает о чем, собственно, речь. Автор сделал все, чтобы не было
никакого начала, не было фазового перехода в мир решающего события,
словно бы никакого, а не то что «решающего», события и не грядет. Зрителю
должно постепенно втягиваться в ход дел. Порывшись в своей богатой памяти
синефила я не могу припомнить других фильмов со столь невнятным началом
(кроме фильмов вообще невнятных и никаких, и которых поэтому я натурально
не помню). И, представляется, от этого всему фильму сообщается момент
тихой мистификации – приглашения к ошибке, к ложному толкованию. Забегая
вперед, скажу, что «Offret» есть коан – вопрос без ответа, не имеющая
решения задача, пат, тупик. Коан, если приглядеться, менее всего высказывание,
или вовсе не высказывание, он антириторичен, коан это провокация-приглашение
в пространство по ту сторону толкования и понимания. Здесь нет места
интеллектуальному усилию, здесь оно бесплодно. Не должно быть вообще
никакого усилия, - но только готовность ко всему (readyness is all,
говорил Гамлет), а значит к немыслимому и недолжному, т.е. к чуду. В
буддизме такое состояние именуется шунъята – пустотность. Субъект (здесь
зритель) должен быть пуст – тогда он может вместить в себя все. Долгий
зачин «Offret» - опустошение зрителя, приведение его в пассивное состояние,
в состояние реципиента.
...........................................................................................................................
Известно как Ингмар Бергман помог осуществить Тарковскому этот фильм
– вся команда шведского мэтра поступила в распоряжение русского изгнанника.
Бергман высоко ценил Тарковского, и тот отвечал старшему товарищу по
цеху взаимностью. Сохранился составленный Тарковским по чьей-то просьбе
top-список режиссеров и фильмов, - там есть «Земляничная поляна». И
при всем при этом два великих режиссера судя по всему не очень-то стремились
к личной встрече. Настолько не стремились, что когда на одном бомондном
рауте в Стокгольме, куда занесло их обоих, она чуть было не состоялась
сама собой, они приложили – и успешно – максимум усилий, чтобы их броуновы
траектории не пересеклись .
Почему?
И почему до сих пор никто не увидел явного, - того, что возможно проливает
свет на загадку их «невстречи», хотя прямо вряд ли может быть с нею
соотнесено: тогда Бергман еще не видел «Offret», - что последний фильм
русского интеллигента-европейца есть ответ интеллигентному европейцу-шведу?
Причем такой, который не только не оставляет камня на камне от вопроса,
но обращает в ничто самого вопрошающего – пародия. «Offret» есть жестокая
пародия на творчество Бергмана, и вместе с тем – разрушение monumentum’a
фигуре европейского интеллектуала-артиста, изваянного шведским метром
по собственному образу и подобию; отрицание и отвержение и отмена парадигмы,
которая никем до того, - да и после, по сей день – не ставилась под
сомнение (Закавычивались интеллектуал par exellence – философ, интеллектуал-эмпирик
и теоретик – ученый, но не Художник). Не ставилась потому, что остается
последним пунктом обороны – средоточием идентичности; потеря этого редута
равна потере Я.
..............................................................................................................................................
Сцепление обстоятельств, приведших Александра к его радикальному жесту,
равно как и сам этот жест настолько ошеломляюще двусмыслены и нелепы,
что делают практически невозможным буквальное прочтение их смысла: невозможно
просто так взять и поверить в то, что герой, будучи сам жертвой наваждения,
в момент, когда морок рассеивается откровенно партизанским манером пускает
под откос всю свою жизнь, мало - благополучие семьи, руководствуюясь
всего лишь обетом, данным именно по наущению наваждения. В этой длинной,
громоздкой, многоуровневой метафоре, как всегда у Тарковского обильно
нагруженной цитатами и всяческими референциями, - притом синтаксически
безукоризненно слаженной, просто не может не быть укрыта какая-то метафизика.
Но распутыванию клубка смыслов, усилию ретроспекции, возникновению у
зрителя самой этой интенции катарсис финала ставит предел своей легкостью,
мерцющей и прозрачной, отменяющeй необходимость что-либо понимать.
(продолжение следует)

|
Блики и Пирамиды
Solaris by Тарковский
Зеркало для всех - и другое
АНОНС:
Неузнанный Сталкер
Ностальгия земная и небесная
ЖертвоприношениЯ
SiteMap
|